Книга: По следам литераторов. Кое-что за Одессу
Глава 3 Преподаватель Мицкевич и доктор философии Франко
Глава 3
Преподаватель Мицкевич и доктор философии Франко
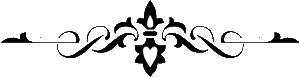
Сейчас мы, как и обещали, вернёмся на Дерибасовскую, чтобы посмотреть то, что пропустили, стремительно перемещаясь от дома Кирсанова к Русскому театру, и показать дом, где работал Адам Мицкевич. Пойдём при этом, пользуясь прямоугольностью сетки улиц, другим маршрутом, чтобы не пропустить интересные, на наш взгляд, объекты или «пару мелких забавных подробностей», как любит выражаться старший из нас.
Вообще Владимира очень впечатляет реакция москвичей на некоторые речевые обороты Анатолия. То, что в Одессе никакого необычного впечатления не производит, в Москве часто воспринимается изысканной шуткой. Вот какой сильный имидж у Одессы как «Столицы Юмора».
Прежде всего – о Русском театре. Он так, как ни странно, называется так с 1875-го года[75]. Здесь ставили и играли всё, поэтому и великих актёров на его сцене побывало множество: от Сары Бернар до Марии Заньковецкой. В 1927-м году театру присвоили имя скончавшегося председателя Губисполкома. С тех пор у нас непревзойдённо логичное название театра – Русский драматический театр имени Иванова.
Как и Оперный театр, Русский театр работал в годы румынской оккупации, причём открылся в апреле 1942-го года пьесой Гоголя «Ревизор». С учётом нравов Румынии (её в СССР в 1930-е годы называли почему-то «боярской») пьеса выбрана «архи-актуальная».
Впрочем, в отличие от Гоголевского Городничего, городской голова Одессы тех лет был достаточно приличным человеком. Выпускник Киевского юнкерского училища Герман Васильевич Пынтя оказался хорошим хозяйственником. Правда, он пришёл на должность с хорошим, по-современному выражаясь, «бэкграундом»: был мэром Кишинёва несколько раз в двадцатые и тридцатые годы. После войны его судили, но оправдали (беспрецедентно!) и дали выехать в Румынию. Повторный суд в Румынии также закончился оправданием. Более того, сейчас одна из улиц Кишинёва носит его имя.
Рядом с Русским театром Одесский ТЮЗ. Театр переехал сюда из здания, доставшегося ему от кафешантана при гостинице «Северная», организованного её практичными хозяевами. Как утверждали недоброжелатели, так они повышали занятость номеров, когда посетители кафешантана добивались благосклонности кого-то из кордебалета…
Именно в этом зале, достаточно неожиданно расположенном во дворе гостиницы, выступал Маяковский 20–23-го февраля 1924-го года; о впечатлениях от этого выступления мы только что рассказали.
До ТЮЗа, носящего нынче имя Юрия Олеши (sic!), в здании была Одесская оперетта – самый любимый одесситами театр. Он так органично вписался в жизнь города, что очень быстро забылось: театр получен по обмену, а его ведущие актёры – не одесситы по рождению. В 1953-м году во Львов для укрепления идеологического фронта перевели театр Советской Армии, а в Одессу – вероятно, совершенно безнадёжную в глазах начальства с точки зрения идеологии – пришла оперетта.
Когда теперь приходишь в ТЮЗ, поражаешься, как столь крохотный зальчик с небольшой сценой играл такую роль в культурной жизни Одессы. Примерно так же изумляешься, попав на Таганку – особенно на старую сцену.
Лидер труппы – Михаил Григорьевич Водяной – первым из артистов оперетты удостоен звания Народного артиста СССР. «Факт, не имеющий прецедента», как сказала в главе XIX «Золотого телёнка» секретарша Полыхаева Серна Михайловна[76]. И это при том, что Водяной работал на сцене в Одессе, а в кино снимался очень мало. Зритель вспомнит, пожалуй, из его 14 киноработ только гротескную роль Попандопуло в фильме «Свадьба в Малиновке». Нам также очень нравится, выражаясь языком Американской киноакадемии, «мужская роль второго плана» в фильме «Опасный возраст». Отец Лилии приезжает из МурмАнска в тщетной попытке помешать разводу дочери. В коротком эпизоде «прочитывается» вся биография этого бескомпромиссного и мужественного моряка. Играет Водяной – уроженец Харькова – с неистребимым одесским акцентом, трудолюбиво выработанным в театре, заслуженно носящем теперь его имя. Нам же приятно, что среди великих Вассерманов мира есть и наш однофамилец Михаил Григорьевич Водяной[77].
Ещё более важное признание заслуг: оперетте – единственному из городских театров – в советское время построили новое здание. Правда, стройка затянулась неимоверно[78], и в городе реально переживали, что легендарная труппа не доживёт до открытия. Театр в итоге открылся и сейчас это самая «крутая» театральная площадка города. Впрочем, Оперный немного поменял политику и сейчас принимает на своей сцене не только оперных и балетных гастролёров. Увы, такая конкуренция не влияет на цены гастрольных представлений. Как заметил Михаил Жванецкий: «В театре не те, кто хочет, а те, кто могут». Новое здание мы обязательно посмотрим, когда будем идти от памятника Высоцкому к дому, где жил Чуковский.
Пока же мы доходим до конца Греческой улицы и поворачиваем по Преображенской направо, чтобы не пропустить невероятный шедевр архитектора Л. Л. Влодека[79] – здание гостиницы «Пассаж». Вход в гостиницу – с Преображенской, но не из самого Пассажа. Это слово означает сквозной проход. Первый этаж гостиницы занят торговыми учреждениями и прорезан проходом, обеспечивающим доступ к ним. Поэтому можно регулярно бывать в этом проходном дворе столь точно названной гостиницы, чтобы «срезать угол», спеша с Преображенской на Дерибасовскую[80]. Но тогда изумительные скульптуры и невероятное количество лепнины перестаёт потрясать[81]. Если же бывать не очень часто, то даже у одесситов захватывает дух. Не замечаешь, что снаружи здание четырёхэтажное, а внутри двора – трёхэтажное, не обнаруживаешь фальшивого окна в декоративной стене на выходе на Дерибасовскую, и прочих тонкостей чисто архитектурной работы. Даже не думаешь, что не очень комфортабельно жить в номере с двойным светом и воздухом. Просто стоишь и зачарованно любуешься красотой, достойной – без преувеличения – любой европейской столицы. Также восхищает невероятный темп строительства: громадина с тремя дворами построена всего за два года. В магазинах, занимающих первый этаж, остались оригинальные деревянные двери[82], а на выходе на Дерибасовскую – замечательная потолочная мозаика.
Итак, мы вышли на Дерибасовскую, чтобы немедленно перейти к другому шедевру того же Льва Львовича – гостинице «Большая Московская». Впрочем, остановимся на секунду посреди пешеходной Дерибасовской, чтобы оценить над самым входом в Пассаж Меркурия на паровозе. Об этом Анатолий подробно рассказывал в первой книге – сейчас достаточно просто полюбоваться столь нестандартной фигурой на крыше здания. Кстати, детальное изучение старинных открыток с изображением «Пассажа»[83] показывает: сначала скульптуры точно копировались и над крылом, идущим вдоль Преображенской улицы (так что и паровозов было два!), но потом с того крыла исчезли, как и могучая башня над углом здания.
Если по мнению Владимира Ильича Ленина «Империализм – высшая стадия капитализма», то по нашему мнению «Большая Московская» – высшая стадия одесского модерна. В Одессе модерна немало, поскольку именно он господствовал как архитектурный стиль в то время, когда город «перезастраивался». «Есть на что приятно посмотреть», как выражался (по другому поводу, конечно) старшина Федот Евграфович Васков в «А зори здесь тихие». Но то, что предстаёт перед нами, особенно мощно и даже избыточно. Мы видим уже не здание, а скульптурное произведение. И не удивительно – декором занимались скульптор «Атлантов» Фишель и скульптор «Пассажа» Самуил [увы, отчество нам неведомо] Мильман. Тут описывать сложно – нужно только видеть.
Мы очень рады, что усилиями одесского бизнесмена Руслана Серафимовича Тарпана здание возрождено буквально из руин. Причём возрождено исключительно добросовестно. Перед началом реставрации в архивах Вены, где провёл последние годы архитектор гостиницы, отысканы оригинальные рисунки и чертежи. По ним специалисты воссоздали 21 000 (!) элементов аутентичного декора. По периметру крыши также появились каменные вазы. В 2014-м году из Италии привезены хрустальные шары. Все эти элементы соответствуют изначальному замыслу архитектора, но утрачены ещё в период революции 1917-го года. Так здорово восстанавливали только Оперный театр, воспроизведя квадратный балкон на самой крыше здания. Этот балкон был в чертежах Оперного, но не установлен при строительстве.
Правда, для повышения ёмкости гостиницы и «сокрытия от глаз» современных элементов систем жизнеобеспечения здания достроены мансардные этажи. Тут, конечно, на язык просится фраза горинского Мюнхгаузена: «Когда меня режут – я терплю, но когда меня дополняют, мне становится нестерпимо». Надстройки сделаны, впрочем, «в духе произведения». Будем считать их умеренной платой за спасение такого архитектурного шедевра. Можем для полного успокоения предположить, что торговцы чаем братья Дементьевы и Васильев[84], будь их бюджет больше, именно с такой мансардой построили бы свою «роскошную, комфортабельную, доступную» (как гласила реклама) гостиницу. Конечно, эти взаимоисключающие характеристики – роскошь и доступность – присутствовали вследствие наличия номеров разной категории. Но о комфортабельности свидетельствовал факт постоянного проживания в гостинице некоторых жильцов.
Печати, аналогичные знаменитому «резиновому Полыхаеву» (см. «Золотой телёнок», гл. XIX), были в ходу заведения, занимавшего это здание после революции[85]. Более того, есть точная географическая привязка «Геркулеса». Помните, Паниковский под видом слепого пытается ограбить Корейко. Потом оба чуть не попадают под автобус; Паниковский разоблачён, собирается большая толпа и «В Городском саду перестал бить фонтан». Повернитесь от гостиницы на 180° – надеемся, фонтан работает.
Забавно, что гостиница именовалась «Большая Московская» – при том, что другой «Московской» гостиницы в Одессе не было. Да и странно бы узнать о существовании в Одессе гостиницы с названием «Малая Московская». Во времена нашей молодости в здании, кроме гостиницы, размещался кинотеатр «Хроника» – и действительно показывал в основном хронику. Там мы посмотрели, в частности, фильм Михаила Ильича Ромма «Обыкновенный фашизм». После него для нас отождествление нацизма и коммунизма, мягко говоря, некорректно. Правда, сам Ромм – похоже, даже с удовольствием – строил изобразительный ряд так, чтобы подчеркнуть параллели между Германией и хорошо знакомой нам советской стилистикой. Но тем очевиднее, что никаких иных – кроме стилистических – параллелей не было. Более того, впоследствии мы убедились: в 1930-е годы сходная эстетика бытовала и в Соединённых Государствах Америки – а уж их мало кто считает тоталитарной[86] державой, хотя как раз тогда ради выхода из Первой Великой депрессии там применялись методы государственного вмешательства в экономику, изрядно напоминающие практику Третьей Германской империи, хотя и далеко не дотягивающие до советского уровня управления хозяйством[87]. Как бы то ни было, главное в фашизме – нескрываемое стремление строить благополучие для своих ценой ущемления чужих (по крови – нацизм, по гражданству – шовинизм, по месту жительства – колониализм и т. п.), тогда как главной идеей социализма всегда было формирование благополучия для всего мира. Даже если по ходу к социалистической цели чьи-то интересы страдали – это рассматривалось как трагическая жертва, подлежащая возмещению в каком-то будущем.
А ещё в этом же доме был магазин «Золотой Ключик» – один из ярчайших символов Дерибасовской. Фирменный магазин кондитерской фабрики имени Розы Люксембург[88] (мы ещё помним фантасмагорические присвоения названий фабрикам и заводам) завораживал оформлением и взрослых и детей. И сейчас фабрика, переименованная в «Люкс» (для сохранения преемственности с Люксембург, как мы понимаем), выпускает достойные наборы конфет – обязательный компонент подарков, везомых младшим из нас к старшему. Но фирменный магазин покинул Дерибасовскую и переместился к Новому Привозу[89].
Украшен «Золотой ключик» был с той же избыточностью, с которой была построена (и – повторимся – в чём-то вылеплена) «Большая Московская». Бедный папа Карло[90] поразился бы изобилию декоративных украшений магазина. Это был хорошо продуманный маркетинговый ход – дети просто не хотели уходить из него, вынуждая родителей делать всё новые и новые покупки. В семье Владимира до сих пор вспоминают, как его трёхлетняя дочка крикнула на весь магазин: «Мы забыли купить папе «Рачки»[91]!». Конечно, она и заботилась о любимом папе, и хотела ещё чуть-чуть побыть в таком сказочном месте.
Через дорогу от «Большой Московской» здание, где был прекрасный Одесский Дом Книги. Самые наблюдательные экскурсанты могут увидеть, что здесь Дерибасовская прогнута. Когда-то на этом месте нашей главной улицы был мост. Военная балка вовсе не формально переименована в Военный спуск. Она была значительно больше и включала как нынешний Военный спуск, так и современную Гаванную улицу. Когда вы шли по ней и стояли у дома Кирсанова, то не догадывались, что идёте по засыпанной части Военной балки. У самого дома Кирсанова засыпан и мост через неё после выравнивания местности. Мост на пересечении Дерибасовской и Военной балки просто разобрали, когда местность достаточно нивелировали. Но небольшой прогиб всё же остался.
Дом книги был настоящим Домом. Он занимал около 800 квадратных метров. Центральная часть – зал двухэтажной высоты, причём опоясан балконом: на первом этаже справа (если глядеть от входа) точные науки, слева – гуманитарные; на балконе – изобразительная продукция и книги по изобразительным искусствам и архитектуре. В левом одноэтажном крыле – ноты и книги, связанные с музыкальными искусствами; в правом – художественная литература. Справа подальше от Дерибасовской – букинистический отдел с отдельным входом с улицы; слева сзади – отдел книг одесских издательств тоже с отдельным входом с улицы. Между этим и музыкальным отделами – служебные помещения, где Анатолий проводил немало времени, изучая планы издательств и заполняя бланки предварительных заказов на предусмотренную этими планами научную и техническую литературу: когда книга приходила в магазин, открытку отправляли почтой, и для выкупа книги надо было предъявить эту открытку. Сейчас издательства также собирают предварительные заказы от магазинов, но читатели в этом процессе не участвуют – зато упростилась допечатка по мере распродажи стартовых тиражей.
Нынче в доме отель, кафе, четыре магазина одежды, магазин обуви; книжного магазина нет. Поверьте – в Одессе есть где купить книги: сейчас мы пройдём мимо одного книжного, потом – мимо самого большого в городе. По разнообразию изданий мы давно опередили советские годы. Но всё же сейчас многое из бывшего тогда вспоминаем с грустью. Например, тиражи большинства тогдашних книг в десятки и сотни раз больше, чем аналогичных нынешних – и сотни тысяч человек находили время всё это прочесть. Да и возможность заказать книгу заблаговременно вселяет немалую уверенность. Вдобавок все нынешние книжные магазины Одессы выглядят не храмами, как Дом книги или тоже давно закрытый магазин научной и технической литературы «Два слона», а скорее супермаркетами: атмосфера изменилась.
Продолжая поход по Дерибасовской, мы подошли к дому № 16. Это зданию исходного Ришельевского лицея. «Исходного», поскольку в Одессе и сейчас работает Ришельевский лицей, но образованный на базе средней школы. При всех его достоинствах, старый и нынешний Ришельевские лицеи – «две большие разницы».
Впрочем, историю лицея пересказывать не будем – мы много внимания уделили ему во второй книге[92]. Нам интересен один скромный молодой преподаватель словесности – Адам Николаевич Мицкевич (1798–12–24 – 1855–11–26). Как и положено классику польской поэзии, Адам Мицкевич родился в литовской дворянской семье[93]. Отец его принадлежал к старинному литовскому дворянскому роду Мицкевичей-Рымвидов. Мать поэта происходила из литовского дворянского рода Маевских, известного в Новогрудском воеводстве Литовского княжества с 1650-го года. Кстати, Новогрудок[94] нынче и вовсе в Белоруссии, что позволяет считать Адама Мицкевича, родившегося на хуторе недалеко от этого древнего города (первое упоминание – 1044-й год), деятелем белорусской культуры. Сам он себя считал «литвином», что в нашем нынешнем понимании тождественно литовцам[95], но в то время – всему населению Литовского княжества (не зря нынешние поборники увековечения отделения белорусов от остальных русских часто именуют себя не белорусами, а литвинами).
В 17 лет Мицкевич поступил на математический факультет виленского – ныне вильнюсского – университета, но быстро перешёл на историко-филологический. Аналогичный случай в следующем столетии прокомментировал математик Давид Оттович Гильберт, когда узнал, что один из его учеников в итоге стал поэтом:
– Ничего удивительного: для математика у него было маловато фантазии.
У Мицкевича, впрочем, и с этим и с энергией, и с организаторскими способностями всё хорошо. Он организует во время учёбы общество «филоманов» и пишет романтические стихи, посвящённые свободе и грядущему освобождению Литвы и Белоруссии от России (то есть – в тогдашних политических обстоятельствах – восстановлению владычества Польши над ними). Исключительно похоже по направлению на ранние романтические стихи Пушкина. Дальше тоже параллели: одного ссылают на юг в мае 1820-го, другого – в начале 1825-го. Тут уместно вспомнить замечательную песню Бориса Оскаровича Бурды «Ссылка в Одессу». Мы, к сожалению, не нашли текст ни в его персональном разделе[96] на сайте «Барды»[97], ни вообще в Интернете, и цитируем по памяти относящийся к теме куплет:
Впрочем, Пушкин в Одессе работал (пусть формально) в канцелярии генерал-губернатора Новороссийского края М. С. Воронцова, а Мицкевич – после «отсидки» в монастыре базилиатов в Вильно – прибыл в Одессу преподавать словесность (по представлениям XX века – работа идеологическая) в Ришельевском лицее. Сидел Мицкевич в связи с деятельностью кружков «филоманов» – любителей науки – и «филаретов» – друзей добродетели. Конечно, деятельность эта была скорее просветительской и – максимум – вольнодумной, а не подрывной (про терроризм вообще никто не слыхал). Но тем не менее показательно отношение министерства народного просвещения и лично министра – адмирала Александра Семёновича Шишкова: он разрешил практически всем бывшим узникам выбирать место службы[98]. Мицкевич и его приятели Ежовский и Малевский выбрали Одессу, причём Мицкевич и Ежовский выразили желание преподавать в Ришельевском лицее. Ходатайство было удовлетворено (!), да ещё и выделено 300 рублей ассигнациями на дорогу. Прекрасная иллюстрация нравов эпохи правления Александра I (а ведь это его поздний, а не либеральный период).
Тут, конечно, сословность общества играла ключевую роль. Дворяне – «свои». В конце того же 1825-го декабристы с тем же чувством «своего» посвятили уже нового царя – победившего их в прямом военном столкновении Николая I – во все детали своей деятельности. Они искренне убеждены: «свой Первый дворянин» прислушается, оценит красоту идей и станет во главе их реализации. С тем же чувством Пушкин 1826–12–22 пишет свои «Стансы» (если не думать, что это тонкий царедворский ход для помощи сосланным декабристам, что можно заподозрить по последней строфе):
Мицкевич, как и Пушкин до него, принят в Одессе с симпатией и сочувствием. Это не история Михаила Иосифовича Веллера[99] в Таллине после эмиграции Сергея Донатовича Довлатян-Мечика. Напротив, Мицкевич окружён ореолом борца за вольность, причём как участник этой борьбы находит сочувствие не только среди одесских поляков (что логично), но и у всего высшего света молодого интернационального европейского города. Такое общество сочло бы тезис «если человек отсидел за идею – это не доказательство её правильности» не комильфо.
В этой атмосфере Мицкевич влюбляется в жену польского магната Иеронима Собаньского (мы его упоминали в связи с Сабанскими казармами[100]; кроме жены и казарм, он не известен практически ничем: даже его место на родословном древе нам не удалось отыскать в Интернете) Каролину Розалию Теклу Адамовну Ржевускую. В «забавной» компании её, её бывшего мужа (развод католиков всё же оформлен в 1825-м), её гражданского мужа генерала Ивана Осиповича де Витта и её брата Генриха Ржевуского (имя, впоследствии известное в польской литературе) Мицкевич путешествует по Крыму. Собанскую Мицкевич ревнует, что логично: по его мнению, человек с таким «облико морале», что ей – при всей упомянутой нами сословной лояльности – отказала в приёме в своём доме сестра де Витта (у них одна мать – София Константиновна Глявоне) княгиня Ольга Станиславовна Потоцкая (по мужу Нарышкина[101]; в её честь названа Ольгиевская улица), способен на всякое. Примерно то же думал Отелло о своей Дездемоне: если, нарушив обычаи Венецианской республики, она вышла замуж за него – мавра, то на следующем этапе может нарушить правила семейной жизни и стать любовницей его лейтенанта Кассио.
«В сухом остатке» мы имеем: легенду, что курортная местность под Одессой – Каролино-Бугаз – названа в честь Каролины Сабанской; поиски следов Собанской в творчестве Пушкина (самый явственный след – автограф стихотворения «Что в имени тебе моём» в альбоме Собанской[102]); ряд сонетов Мицкевича с инициалами адресата D.D. Сонеты описывают все этапы взаимоотношений: от робкой влюблённости через бурную страсть к горькому разочарованию. Так что разрешение уехать в Москву в ноябре 1825-го пришло очень кстати. Мицкевич немедленно им воспользовался, и в Одессе больше не бывал.
Умер он в 1855-м – от холеры, в Константинополе. Туда его занесла идея «сколотить» польский легион для помощи Оттоманской империи в очередной войне с Россией[103]. Затея для штатского довольно самоуверенная[104].
Простим Адаму Мицкевичу эту попытку: на национальном (особенно польском) вопросе ломались многие. Печальнее то, что поэт скоропостижно умер, лишив читателей многих прекрасных ненаписанных произведений. Но у нас его и любят и почитают. Кроме мемориальной доски на Лицее, открыли памятник – к нему мы скоро подойдём. И – вишенка на торте – среди переводов Мицкевича есть созданные Кирсановым. Из них популярнейший – «Посвящение в альбом», потому что музыку к этим стихам написал вышеупомянутый Давид Тухманов и включил в свой второй диск «По волнам моей памяти».
На Лицее установили и мемориальную табличку в честь визитов туда Пушкина. Но про него мы, пожалуй, не будем рассказывать. Высоцкий писал для кино бесконечно, а песни не брал практически ни один режиссёр. И не только по цензурным соображениям. Песни в большинстве на порядок мощнее, чем фильмы, куда они предназначались. Они реально рвали бы ткань картины. Так и у нас: Пушкин слишком крупная фигура, чтобы говорить о нём по ходу наших одесских прогулок. Ограничимся только тремя «маленькими забавными подробностями».
К нескольким мемориальным доскам, фиксирующим пребывание Пушкина в различных домах юной Одессы, прибавился контур его, нарисованный на на асфальте на углу Дерибасовской и Ришельевской. Спорное решение, сразу вызывающее в памяти изображение места убийства в стандартном детективном фильме.
Прекрасный памятник Пушкину на Приморском бульваре (без его осмотра не обходится ни одна хрестоматийная экскурсия в Одессе[105]) можно рассматривать как фонтан: изо ртов четырёх весьма условных дельфинов, расположенных по углам постамента, льётся вода в четыре чугунные чаши[106], чтобы из них перелиться в прямоугольный бассейн вокруг памятника (кстати, мы не помним ни одного ремонта водопроводных труб, расположенных внутри памятника: надёжно сделано). Так что мы имеем фонтан Пушкина, из-за чего пришлось сделать и второй – стандартный – памятник у его дома на Пушкинской (Итальянской), № 13[107].
В советское время при осмотре памятника Пушкину непременно рассказывали, как его специально развернули спиной к Городской думе в знак недовольства неучастием Городской думы в финансировании сооружения памятника. Полная чушь. Во-первых, памятник логично смотрит на аллею Приморского бульвара. Во-вторых, в момент сооружения в здании за спиной памятника была не Дума, а Городская биржа. Дума, кстати, была в одном из полуциркульных домов около памятника Ришелье, так что наш задумчивый Пушкин смотрел как раз на гласных Городской думы. В третьих, сбор средств дал меньше половины сметы памятника-фонтана, и Дума таки дала необходимые для завершения строительства деньги. Так что «не читайте за едой советские газеты».
От мемориальной доски Мицкевича переходим на нечётную сторону Дерибасовской, чтобы по Красному переулку дойти до дома, где останавливался Иван Яковлевич Франко (1856–09–27 – 1916–05–28). У нас в недалёкой перспективе памятники Адаму Мицкевичу и Ивану Франко; оба стоят на Александровском проспекте. Так что логично посмотреть на дом, где Франко жил в Одессе.
Пока ещё пару слов про переводы. Конечно, чем масштабнее поэт, тем сложнее его перевести на другой язык: поговорка «переводы – как женщины – либо некрасивы, либо неверны» в прозе работает не всегда, но в поэзии оправдывается почти без исключений Если переводчик – сам крупный поэт – проблема ещё больше. Вот Дмитрий Быков берёт все интервью без диктофона. Память у него феноменальная, что говорить. Но почитайте три тома «И все-все-все» (включая и интервью с Анатолием): нельзя сказать, что Быков интервьюирует самого себя, но, воспроизводя беседы по памяти, он – вольно или невольно – шлифует речь собеседника под свой стиль.
С другой стороны, великие переводы делают творчество автора в другой языковой среде живым и современным. Точно знаем (дочь Владимира в Торонто общалась с учениками High School, то есть по-нашему – старших классов средней школы), что Мольера и Шекспира в оригинале сейчас воспринимают намного хуже, чем мы с невероятным богатством переводов на современный русский язык[108].
Добавим тут же, что проблемы с цензурой, вынуждавшие наших перворазрядных – а то и великих – литераторов десятилетиями заниматься переводами, для нас обернулись не только доступностью литературных титанов прошлого. Были ведь – чего греха таить – созданы целые эпосы народов СССР, что повысило самооценку этих народов. Это тоже здорово.
Мы дошли до угла Греческой и Малого переулка. На доме № 42 по Греческой мемориальная доска, сообщающая, что в этом доме в 1909-м году жил великий украинский писатель, революционер-демократ Иван Франко.
Начнём с сенсации: Франко не переводил Мицкевича на украинский язык. Это сенсационно потому, во-первых, что Франко знал польский язык столь свободно, что ещё в гимназии регулярно выполнял задания по польскому языку в поэтической форме. Во-вторых, обладая феноменальной памятью, он знал 14 языков и при желании мог бы перевести Мицкевича с польского на, например, немецкий. Ведь переводил же он «Фауст» Гёте на украинский. И мог «с листа» переводить детям сказки братьев Гримм, читая их перед сном. А вот Мицкевича на украинский не переводил. Хотя как знать – нам известно «всего» 5000 (!) произведений Ивана Франко. Может, затерялась какая-то сотня, включая переводы Мицкевича.
Не затерялась – что крайне осложнило жизнь Ивана Франко – его статья о психологии творчества Мицкевича, по случаю его юбилея: «Der Dichter des Verraths» «Поэт измены» (в венском журнале «Zeit»). После этого, как говорил Жванецкий по поводу своей шутки на концерте в Сочи в «застойные годы» – «И Сочи для меня закрылся!». Так для Франко с конца XIX века закрылись все польские газеты и журналы.
Вообще, жизнь Франко в Галиции в период бурного кипения национальных страстей была сущим наказанием. Человек безграничного дарования, поэт, писатель, этнограф, экономист, философ, гражданский и политический деятель, был всеми привлекаем и всеми осуждаем. Вся его жизнь, без преувеличения, борьба. Борьба за кусок хлеба в детстве и в юношестве, борьба за минимальный достаток в семье до самой смерти, борьба за право писать то, что думаешь, и придерживаться тех политических взглядов, какие считаешь верными.
Ему доставалось от всех, хотя никто не отрицал его эрудиции, литературных и редакторских талантов, потрясающей памяти и невероятной работоспособности. Поэтому его бесконечно приглашали руководить различными журналами, публиковали его поэмы, романы, научные исследования – и ругали, «не пущали» и просто травили.
Франко пытался стоически всё это переносить. С невероятной энергией он занимался своим образованием и самообразованием. Будучи сиротой и зарабатывая после дрогобычьской гимназии репетиторством, в 19 лет поступил на философский факультет Львовского университета. Там вступил в товарищество «Академический кружок», быстро эволюционировал до масштаба гражданско-политического деятеля, заслуживающего ареста. В 1877-м году арестован австрийским правительством (всего арестов было четыре). Затем возобновление учебы во Львовском университете (1878–1879; всего 7 семестров), потом окончание высшего образования в университете Черновицком (аж 1890–1891), потом докторантура в Венском университете и защита (1893) докторской диссертации «Варлаам и Йоасаф, старохристианский духовний роман и его литературная история».
Профессорский сенат Львовского университета избрал его на кафедру украинской и старорусской литературы, но наместник Галиции и Лодомерии граф Казимир Феликс Ладиславович фон Бадени (1846–10–14 – 1909–07–09) не допустил до утверждения в профессуре человека, к тому времени уже трижды сидевшего в тюрьме, да ещё основавшего «Русско-Украинскую радикальную партию». От этой партии Франко трижды баллотировался в сейм Галиции и даже в австрийский парламент, но избран, конечно, не был.
Последние годы жизни его были ещё трагичнее. Умирает старший сын, жена регулярно лечится от психического заболевания. Сам Франко уже с 52 лет страдает от инфекционного ревматоидного полиартрита, парализующего его руки. Физически он совершенно беспомощен и в тщетной надежде поправить здоровье приезжает в Одессу. Воспоминания очевидца об этом визите[109] читать бесконечно тяжело.
Как видим, тяжёлый физический недуг сочетается и с душевным расстройством. Смерть, наступившая 1916–05–28, явилась не только избавлением, но и примирением всех с Франко. Начинается культ Франко. Ему – скромному и до конца жизни небогатому человеку – ставят самый заметный памятник на Лычаковском кладбище Львова. В Польше 1918–1939-м годах все – социалисты, марксисты, националисты – выдвигают его на щит. В его громадном научном и литературном наследии (более 100 томов на украинском, русском, польском, немецком языках) каждый находит подходящий фрагмент, который можно считать подтверждением своей идеологии.
С приходом советской власти «Show must go on». В честь Ивана Франко переименовывают не только посёлок городского типа Янив, но и целый город Станислав. В силу тождественного написания фамилии писателя и испанского диктатора (различие только в ударении), город и посёлок называются Ивано-Франково и Ивано-Франковск. Если бы аналогичный приём был использован для Проскурова, у нас был бы Богдано-Зиновье-Хмельницкий.
После СССР Франко, конечно, остаётся в Пантеоне великих украинцев. Но – как и положено такому масштабному – даже не человеку, а явлению – стоит особняком. Когда Франко открывали памятник в Одессе, то отметили, что он хотел увидеть море, но сам был целым океаном. Сравнение ёмкое. Во-первых, до сих пор полностью не известно, что таится в глубинах его творчества. Поэтому отношение властей к нему почтительное, но опасливое и осторожное. Как того океан заслуживает. Во-вторых, если посмотреть в его чистые воды в штиль, то увидишь своё отражение. И это тоже справедливо по отношению к творчеству Ивана Яковлевича Франко.
- Франко-венецианский период
- Улица Доктора Короткова
- «Доктор климат»
- Доктор Карл Задлер
- Травяные чаи. Советы доктора С.В. Корепанова
- Послания воды. Исследования доктора Масару Эмото
- О ТОМ, КТО ДОБАВИЛ СЛАВЫ НОВОГРУДКУ (об Адаме Мицкевиче)
- АВТОР РЕЦЕПТА ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ (о докторе Станиславе Нарбуте)
- Площадь Доктора Игнаца Зайпеля
- Добрый доктор в мягких кандалах
- F. Крепость Франкокастелло




