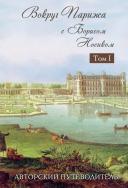Книга: Вокруг Парижа с Борисом Носиком. Том 1
Фонтенэ-о-Роз
Фонтенэ-о-Роз
Дюма отправляется в гости Бесстрашный Борис Вильде • Знаменитые и полузабытые обитатели дома 8 по улице Вильде
Среди прочих некогда живописных пригородных местечек под Парижем, в названии которых журчат былые ручьи («фонтен»), деревушка эта кичится вдобавок упоминанием о розах. Розы и впрямь на здешней песчаной почве произрастали чу?дно. Их здесь и нынче много в дачных садах – хватит на все могилы былых обитателей, в том числе и русских, которых тут было немало.
Впрочем, историки уточняют, что розы здесь (как и в ближних деревнях Со и Шатийон) появились сравнительно недавно – в середине XVII века, сама же деревушка (со всеми своими ручьями) появилась задолго до роз. Она упомянута уже в каком-то документе XI века, хотя еще не обрела к тому времени гордой самостоятельности и упомянута как Фонтане-тум апуд Бальнеолас (учтите, что римляне еще были здесь, оттого и латынь была в ходу), а говоря по-французски: Фонтенэ-су-Банё. То есть деревушка была частью Бане. А вообще, за истекшие столетия кому только она не была придана, эта деревенька, – какому аббатству или коммуне. Но уж в XVII веке в названии деревушки наличествовали розы, а часть ее принадлежала тогда прославленному Жану Батисту Кольберу, министру Людовика XIV. Французские историки помнят много разнообразных событий, так или иначе связанных с этой деревней. Скажем, в 1793 «ревтеррорном» году прославленный Кондорсе, спасаясь от преследователей, отчаянно стучал здесь в калитку друзей своих Сюаров, но ему не открыли, так что бедняга арестован был в Кламаре и покончил с собой в тюрьме, в недалеком Бур-ла-Рене. В Фонтенэ умер в 1874 году знаменитый политик Ледрю-Роллен. Основатели первого парижского универмага («Бо Марше») знаменитые меценаты Бусико осыпали деревню благодеяниями. А в первой половине XIX века здесь еще были простор и дачная глушь хоть куда. Поклонники Дюма-отца, осилившие все многопудье подписанных им томов, с торжеством выудили соответствующую фразу из романа «Тысяча и одно привидение». Вот она:
«1 сентября 1831 года я был приглашен на открытие охотничьего сезона, имевшее место быть в Фонтенэ-о-Роз».
Далее знаменитый автор подробно рассказывает о хозяине здешних мест, «достойном выученике Римской школы», и пространно живописует равнину Фонтенэ «с ее стогами соломы, где укрываются зайцы, и полями люцерны, из которой взлетают перепела», не упустив и описания дороги от Парижа до Фонтенэ – мимо морковной и свекольной огородной пустыни, мимо белеющих каменных карьеров. Но вот цель путешествия, наконец, достигнута:
«В восемь с половиной мы прибыли в Фонтенэ, которое являет собой истинный букет роз: у каждого дома свой розарий, и розы стелются вверх по стенам. Солнце уже вставало над деревнями Со, Бане, Шатийон и Монруж, за которыми нарастал некий глухой шум: это было дыхание Парижа».
А теперь, определившись с помощью Дюма в пространстве, мы можем перейти в наиболее занимающий нас период пригородного существования местечка, тот, что последовал за большевистским переворотом 1917 года в России. Здесь тогда стали появляться русские изгнанники. Иные из них уже вошли, другие еще только войдут в историю – в русскую, французскую, общеевропейскую и мировую, в историю искусства, литературы и даже редкого, но от этого не менее славного здешнего Сопротивления…
Я имею в виду не одних только новых более или менее постоянных обитателей деревни, вроде знаменитой художницы Александры Экстер, которая и упокоилась на местном кладбище, но также и тех, что прожили тут недолго, а также тех, что год за годом приезжали сюда на лето, – вроде Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова…
Самому мне впервые довелось побывать в Фонтенэ лет двадцать тому назад, вскоре после приезда во Францию, и тот теплый весенний день до сих пор стоит у меня в памяти. Пригласила нас тогда в гости к своим родителям, жившим в Фонтенэ-о-Роз, знакомая нам с женой еще по Москве красавица переводчица Аннушка Лоран. Матушка ее Алиса Лоран (в девичестве Пресс) происходила из знаменитой музыкальной семьи. Отец Алисы, замечательный виолончелист Иосиф Пресс, его славный старший брат-скрипач Михаил и жена брата Вера Маурина составили «Русское трио» и выступали с концертами по всему миру. Крупнейшие музыканты и композиторы, вроде Хейфеца, Рахманинова и Эльмана, высоко ценили трио семьи Пресс. В начале же двадцатых годов, после смерти старшего брата, Иосиф Пресс с успехом давал сольные концерты в США и уже начал преподавать в Рочестерской консерватории, но скоропостижно умер от гриппа, оставив двух малолетних дочек и любимую жену Евгению Даниловну (урожденную Балаховскую). Когда-то родительский дом Евгении Даниловны на Трехсвятительской улице в Киеве был гостеприимен, богат и счастлив. Отец Евгении Данила Григорьевич Балаховский, сахарозаводчик и представитель французского консульства в Киеве, знаком был здесь многим. Часто гостила у Балаховских семья хозяйкиного брата, ставшего знаменитым философом (псевдоним его был Лев Шестов). Все кончилось с приходом российской катастрофы. В ноябре 1918 года семья покинула Киев, добралась во французском поезде до Одессы, а оттуда – дальше на запад. В Генуе у Жени Балаховской и молодого виолончелиста, ее мужа, Иосифа Пресса родилась дочка Марианна, а еще через год, в Висбадене, и вторая – Алиса, к которой я и угодил в гости в Фонтенэ каких-нибудь шестьдесят лет спустя.
Алиса росла по большей части во Франции, вышла замуж за симпатичного инженера-француза Пьера Лорана, с которым они в начале 50-х годов и купили дом в Фонтенэ-о-Роз… В тот памятный весенний день 1982 года мы завтракали в их почти русском саду под шелест молодой березовой листвы, и разговор шел по-русски. Моей соседкой за столом оказалась внучка философа Льва Шестова – она только что закончила книгу о жизни деда и была теперь озабочена ее переводом. С другим гостем, питерским художником-эмигрантом Толей Путилиным, и его симпатичной женой-художницей мы долго обсуждали перспективы их парижского творчества, которые, к моего наивному неофитскому удивлению, представлялись этим молодым и талантливым людям весьма сомнительными… Боже, как давно это было!
Помню, как, гуляя после завтрака по одной из тамошних дачных улиц, я заметил дощечку с надписью «улица Бориса Вильде». Имя это было мне знакомо. Моя московская наставница на стезе перевода, замечательная переводчица Рита Яковлевна Райт-Ковалева, долго-долго писала книгу о Вильде и часто мне о нем рассказывала. Вильде жил здесь в тридцатые годы в доме своего тестя, известного французского историка-медиевиста Фердинанда Лота, и тихие, уютные эти улочки он вспоминал до самой своей трагической гибели. Поздравляя тестя и тещу с Новым 1940 годом, Борис Вильде писал им в Фонтенэ из окопов «странной войны», которую Франция проиграла тогда, почти не повоевав:
«Дорогие родители!…есть один уголок, где я, бродяга по призванию и рождению, чувствую себя у нас дома. Этот уголок называется Фонтенэ-о-Роз. Деревушка маленькая и красотой не выделяется, дом старый и не очень удобный, но я глубоко привязан к этому семейному очагу, потому что в нем для меня воплощена настоящая Франция, моя Франция, за которую я ушел воевать…
Моя Франция для меня – не страна, не нация. Это те идеалы, которые касаются всего человечества в целом. До них еще очень далеко, а сейчас, может быть, дальше, чем всегда, но если я все же вижу возможность их осуществления, если я ищу их в проявлениях французской мысли, то лишь потому, что мне посчастливилось встретить во Франции таких людей, которые примирили меня со всем остальным человечеством. И среди этих людей вы, дорогие мои родители, занимаете совершенно особое место. Благодарю вас за это. До глубины души ваш – Борис» (здесь и далее в очерке – перевод с французского моей учительницы Риты Яковлевны Райт-Ковалевой, Царствие ей Небесное).
А вот и еще одно, вовсе уж зимнее, письмо из окопов той «странной войны» – сюда же, в Фонтенэ:
«…Холод и снег – 21 градус ниже нуля. Но вокруг – сказочная красота, ее очарование покоряет, вызывая воспоминания о моем далеком детстве. Неужели то был я, мечтательный и робкий мальчик, затерянный в бескрайних просторах русской зимы, неужто это я слышал шум ангельских крыл над моей кроваткой? Конечно же, он – этот маленький человек – был самым лучшим, самым чистым – и самым наивным! – из всех, кто сменил его в том же теле, пока он рос и мужал.
Так кто же был этот «русский мальчик», живший в Фонтенэ, писавший романтические письма с цитатами из Гумилева с фронтов французской «странной войны» против Гитлера, а позднее ставший героем Сопротивления, того самого, к которому в без трудов усмиренной немцами Франции, даже по официальным данным, имело прямое или косвенное отношение не больше полупроцента населения? И кто были эти прекрасные люди из Фонтенэ, примирившие молодого русского (похоже, немало уже испытавшего за тридцать лет жизни) «со всем остальным человечеством»?

БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ВИЛЬДЕ
«Русского мальчика» звали Борис Владимирович Вильде. Родился он на станции Славянка под Петербургом, где отец его Владимир Иосифович (сам родом то ли из Литвы, то ли из Польши) был железнодорожным служащим. Отец умер совсем рано, оставив на руках у жены, Марии Васильевны (в девичестве Голубевой), двух малолетних детей – Раю и Борю. Вдова перебралась в родное село Ястребино, а потом, спасаясь от войн и революций, – в эстонский Тарту (былой Юрьев или Дерпт). Здесь Борис окончил гимназию, начал писать стихи, мечтая о писательской карьере. Учил эстонский и немецкий и поступил в знаменитый местный университет. Но потом из университета его отчислили и даже отдали под суд. Рассказывают, будто он пытался бежать из Эстонии на лодке в бурную погоду по озеру в благословенный Советский Союз, но был задержан пограничной стражей. Может, были у него и другие проступки или неприятности. Все, что рассказывают соученики и учителя о его отрочестве и мятежной юности, свидетельствует о незаурядных его способностях, мужестве и авантюризме…
В Тарту Борис не остался, решил пробираться на Запад, сначала в Германию, а потом, может, еще дальше. В Берлине, в Йене и в Веймаре этому стройному, красивому юноше с шапкой курчавых темно-золотых волос пришлось нелегко. Сохранилось его письмо к матери с благодарностью за присланные деньги:
«Обедаю в одной студенческой столовке – обед из 2-х блюд – 50 пф. Хлеба, правда, не дают, зато можно получить добавочную порцию картофеля с соусом… Моя хозяйка очень милая старушка. Когда было нечего есть, она раза три приносила мне бутерброды… От нее же беру для чтения книги – немецкие – я сделал очень большие успехи в языке… Как-то раз, когда было очень голодно, получил на улице случайную работу – таскать ящики с книгами на третий этаж. Было здорово тяжело…
Дорогая мамочка – не беспокойся обо мне. Ты знаешь, что я молод и здоров и все, что со мной ни случается, мне нипочем. Я верю в судьбу, и мне все равно, как и что случается с моей жизнью. Между прочим – писал ли я об этом – когда я уезжал из Юрьева, то в Валке случайно был у гадалки… и вот что она сказала:…мне предстоят в жизни странствия и приключения… в скором времени мне предстоит суд и тюрьма – но все кончится хорошо – еще много лет я буду жить неважно, но после стану очень богатым и женюсь где-то далеко за морем на прекрасной блондинке (вероятно, с приданым!) и буду знаменит… Как видишь, до сих пор предсказание довольно верно исполнилось – неудачное путешествие, тюрьма и суд, который хорошо кончился… Посмотрим, что будет дальше – против приключений во всяком случае ничего не имею. Я никак не могу смотреть на жизнь серьезно – ведь это только глупый и пустой сон, за которым все равно рано или поздно следует пробуждение – смерть…»
В Германии Борис подрабатывал переводами, читал в клубах какие-то лекции о малоизвестном ему советском культурном процветании и даже завел роман с единственной на весь город китаянкой. Рассказывают, что как-то после лекции Андре Жида он сумел разговориться с этим знаменитейшим в ту пору французским писателем и мужелюбом, на которого он произвел благоприятное впечатление и который дал ему свой парижский адрес. Может, так оно и было. О германских и первых парижских приключениях Бориса известно не так уж много. В Париж он попал в тяжкую пору безработицы. Его видели в столовой, которую мать Мария и ее помощницы открыли для безработных русских бедняков. Позднее он, впрочем, перестал ходить туда и сообщил знакомой, что поселился в пустовавшей мансарде у Андре Жида. Он даже повесил объявление об уроках русского языка, сообщив для связи адрес самого Андре Жида. Это было славное имя, и если не нужда в русском языке, то даже простое любопытство могло привести по этому адресу кого-нибудь из поклонников модного литературного гения. Вероятно, движимая подобным любопытством и пришла по адресу молодого учителя «прекрасная блондинка», нагаданная ему цыганкой из эстонской Валки (у нее были почти белые, светлые волосы, и вот как описывала ее кузина, видевшая ее в детстве в Ленинграде: «Она поразила меня своей прозрачной, «неземной» красотой. Высокая, тоненькая, очень элегантная… Белые волосы, совсем светло-голубые глаза… Что-то в ней было фарфоровое, неживое, без красок. Но вдруг – прелестная улыбка, легкость и грациозность движений…»).
Звали ее Ирен… Начались уроки русского языка, и за ними, как легко догадаться, последовал роман. Строго говоря, у «прекрасной блондинки» не было обещанного эстонскою цыганкой «приданого». Но у нее было большее – замечательная семья. На правах жениха, а потом мужа и зятя Борис Вильде вошел в одну из самых интеллигентных, вольномыслящих и терпимых русско-французских семей парижской диаспоры. Мать Ирен Вильде Мирра Ивановна Бородина родилась в Петербурге и была дочерью известного русского ученого-ботаника, академика Бородина. Двадцати пяти лет от роду (в 1907 году) она поехала учиться в Париж, вышла там замуж за известного историка-медиевиста, профессора Фердинанда Лота, родила ему трех дочек, да так и осталась во Франции. Брак удался, хотя Мирра Ивановна была верующей, православной, а профессор, как и положено французскому интеллектуалу (комильфо), был атеистом, антиклерикалом и вообще человеком очень левых взглядов. Конечно, при наличии трех дочерей, которых нужно и вывести в люди, и выдать замуж, профессор истории Лот и темпераментная Мирра Ивановна, которая занималась и наукой, и общественной работой, и благотворительностью, писала богословские статьи, да и стихи писала тоже (она издала вместе с поэтессой и медиевисткой Раисой Блох сборник своих стихов), не могли нажить палат каменных. Даже дом в Фонтенэ принадлежал им не полностью: там занимал квартиру еще один жилец, известный физик Ланжевен, ученик Пьера Кюри и, конечно, человек левых взглядов (левые тяготели тогда отчего-то к национал-большевизму Ленина и Сталина, а правые – к национал-социализму Гитлера). Супругов Лот в научных кругах Парижа знали все, и они знали всех, так что говорить о том, что цыганка из Валки вовсе уж ошибалась по поводу «приданого», нельзя. Во Франции трудно войти в какой бы то ни было профессиональный круг (даже в круг дворников-консьержей или бомжей) без семейной и дружеской поддержки, так что собратья Бориса Вильде, поэты из «незамеченного поколения» русских «монпарно», не без оснований считали его счастливчиком и ему завидовали. Отчасти, может, поэтому он и не сошелся близко ни с кем из молодых авторов «Чисел», «Кочевья» и «Круга» Фондаминского. К тому же был он человек непростой и еще в юности придумал для себя маску эгоиста и ницшеанца, хотя и был вполне сентиментальным «русским мальчиком» и вдобавок еще поэтом. Настоящим поэтом (он взял себе поэтический псевдоним Борис Дикой) Вильде, пожалуй, так и не стал, ибо отдаться одной лишь поэзии или философии (как это сделал маргинал Поплавский) он в тех условиях не решился. Нищета и нахлебничество его унижали, он работал с детства, с 12 лет, помогал матери-работнице. Квартиру ему и Ирен (они поженились в 1934 году) снимали ее родители, пока могли, в 1936 году молодые въехали в родительский дом в Фонтенэ. Борис сумел подыскать какую-то постоянную бухгалтерскую работу (пошел на то, от чего отказались в Берлине братья Набоковы) – на целый день. Кроме того, он упорно продолжал учебу – сдавал экзамены по русскому и немецкому, изучал финский и японский, переводил с эстонского – и наконец стал сотрудником этнографического Музея человека. В Музее он участвовал в создании Угрофинского и Арктического отделов, а летом 1937 года ему даже удалось съездить в экспедицию в Эстонию, где он изучал быт и фольклор народности сету.
Странно, что никто из знавших его собратьев-поэтов по «незамеченному поколению» не разглядел его особую силу характера, его незаурядный авантюризм и его способности. Стихи его, впрочем, были пока такие же, как у многих из них, – подражательные (разве что у него пошире был круг языков и кумиров – Рильке, Георге, Гумилев, Валери). Он и сам, впрочем, знал свои слабости:
Собственные стихи не удовлетворяли его, не давались. Но зато он втянулся в научную работу, делал интересные доклады, получил французское гражданство, отслужил в армии, а в 1939 году уехал в научную командировку в Финляндию.
Ну а любовь, семья? Началось все с упоения медовых месяцев, с поездки на юг: влюбленная Ирен, розовые скалы – и чудная семья: теща любила его как сына, равно как и симпатичный отец-профессор, вдобавок единомышленник, левый («Профессор очень рад моему приезду. – А то и не с кем было потолковать – о политике и т. д. Я очень люблю его слушать…» – письмо 1933 года). Целыми вечерами они гуторили с «отцом»-тестем о победах социализма, о грядущем коммунизме Сталина. Об «отце» в письмах Бориса – не меньше, чем о жене. Впрочем, с женой, выросшей в другой стране, в другом доме, было, наверное, не все просто. Но задуматься об этом он не успел. Собственно, он ничего не успел – не успел написать настоящие стихи, не успел обработать научные изыскания, не успел научиться нелегкой науке совместной жизни. Все происходило стремительно…
В 1939 году Борис Вильде был в научной командировке в Финляндии. Началась война, и ему пришлось вернуться во Францию. Он ушел на войну. «Странная война» длилась недолго. Французские воины заполнили немецкие лагеря военнопленных. В июле 1940 года бригадир Вильде бежал из плена и снова очутился в Париже. Пробил его час. Он всю жизнь мечтал об опасностях, борьбе, приключениях. Война для него не была закончена. Его война только начиналась. При Музее человека возникла крошечная подпольная группа, выпускавшая на институтском гектографе газету «Сопротивление» (резистанс). Слово было найдено. Не стоит думать, что здешнее движение Сопротивления до высадки союзников на французском берегу было сколько-нибудь массовым. Я склонен скорее верить бесстрашному Сент-Экзюпери, чем профессиональным пропагандистам компартии или де Голля. Сент-Экзюпери писал с горечью: «Где была живая Франция? Я верил, что в один прекрасный день она проснется. Но этот образ народной Франции, яростно ненавидящей власть, которая обрекла ее на… перемирие, – ах, какая все это ложь! С приходом немцев это стадо испустило чудовищный вздох облегчения». Сент-Экзюпери признает, что были исключения. Подпольная группа Музея человека была среди этих исключений. Можно отметить, что даже в маленькой этой группе было два молодых русских ученых, два поэта – Борис Вильде и Анатолий Левицкий.
6 июля бежавший из плена Борис Вильде появился в музейном кафе, когда сотрудники завтракали. Он хромал. Старик-директор бросился к нему, обнял его, повторяя: «Мой мальчик, мой дорогой мальчик…»
Через два дня Борис написал на листке отрывного календаря: «Вильде разбирает экспонаты… Сегодня ему исполнилось тридцать два года». Тридцать третью годовщину он отметил в тюрьме. До тридцать четвертой он не дожил…
С июля до марта 1941 года – семь месяцев – длилась его подпольная жизнь, его Сопротивление. С марта до конца жизни, до расстрела, – долгие одиннадцать месяцев – он провел в тюрьме.
Об этих его тайных семи месяцах подполья писали много и не очень внятно. Писали после его смерти. В героическом стиле. Оно и понятно. Подпольная жизнь его, связанная со смертельным риском, была и тайной и героической. Клод Авелин рассказывал:
«Мы познакомились в кафе: он подошел ко мне, широкоплечий, светловолосый, синеглазый, и, отведя меня в сторону, сказал, что он зять моих близких друзей.
–?Говорят, вы работаете? – сказал он негромко.
–?А вы? – спросил я, и мы оба рассмеялись. С тех пор мы стали друзьями и сотрудниками.
Я не знал человека, который бы лучше владел собой, а ему, с такими глазами, горевшими внутренним пламенем, надо было уметь себя сдерживать. Он походил на северное божество. Он был очень красив…»
Андре Жид писал в своих воспоминаниях о годах оккупации:
«…Я считал, что самые храбрые представители нашей молодежи слепо идут на верную гибель. Их самопожертвование грозило гибелью лучшим из лучших, и Франция была бы еще более обескровлена этими напрасными жертвами, этими ненужными, как мне казалось, потерями…
Потом пришел… один человек и так укрепил… пугливую надежду, что все небо вновь засияло надо мною.
Этого человека звали Борис Вильде, и он несколько месяцев жил в мансарде в моем доме. Не помню, какой счастливый случай свел меня с ним в тридцатые годы. Он тогда искал место, и я горячо рекомендовал его профессору Риве, который возглавлял Музей человека. Риве сразу сумел оценить его блестящие способности. Вильде всегда держался настолько скромно и сдержанно, что я почти ничего о нем не знал и уж никак не мог предугадать, какую героическую роль он будет играть в Сопротивлении. Во всяком случае, наш разговор в тот поздний вечер, когда он явился ко мне, показался мне настолько важным, что я без колебаний решил познакомить его с Пьером Виено, который скрывался у моих соседей.
Я представил их друг другу и ушел, чтобы не мешать им, и они проговорили до самого утра.
Вскоре после этой встречи Вильде был предан и расстрелян. Я с глубоким уважением склоняю голову перед этим благороднейшим человеком. Все, кто его знал, до сих пор преклоняются перед этим мучеником…»
На протяжении семи месяцев Вильде выпускал газету, переходил в свободную зону и переводил других, выполнял различные поручения… У него были друзья и помощники. Больше всех он доверял Гаво, который всех и продал. Почти в каждом подполье бывает предатель…
В те месяцы Борис почти перестал появляться дома, в Фонтенэ. Ирен упрекала его в этом, а может, и еще в чем-то, чего я не знаю. Кажется, еще в том, что он вовремя не уехал из Парижа. Что задержало его тогда? Один из мемуаристов (В. Яновский) утверждает, что у него был в то время роман в балетной студии Ирины Гржебиной. Все может быть: в тайной жизни подпольщиков нередко возникают и тайные любови… Все это потеряло значение в конце марта 1942 года, когда он был арестован на площади Пигаль, оказался в тюремной камере и был обречен на смерть. Последний раз он побывал в Фонтенэ 25 марта.
В тюремной камере он проявил все свое мужество (в котором у него никогда не было недостатка) и написал свои лучшие письма, а через полгода после ареста, в одиночной камере тюрьмы Фрэн, написал и свой «Диалог в тюрьме», «внутренний диалог между двумя «Я», и оба они настоящие». Один из «настоящих» «Я» бесстрашно идет навстречу смерти, другой подробно живописует радости жизни… Но главное в «Диалоге» – размышления об ушедшем, о прожитой жизни, об отношении к людям, о Франции, о любви… Вильде писал, что тюремная камера как темная комната, где проявляется фотопленка. Все становится ясным и отчетливым, проступает главное. Главным из того, что с ним случилось в жизни, неожиданно оказалось его чувство к жене:
«Иногда мне удается полностью отрешиться от того, что было моей жизнью, – от всего, кроме Ирен. Не могу оторваться от нее. И в этом – мера моей любви к ней, она одна еще связывает меня с жизнью… И это чудо. Почему и как я люблю ее?»
И дальше, обращаясь к себе самому:
«…В один прекрасный день в великолепном бастионе твоего равнодушия открылась брешь. Все началось со встречи с твоей будущей женой… ты боролся годами, прежде чем признать поражение. И только недавно ты понял, что это поражение и было победой… с минуты нашей встречи я почувствовал в себе человеческую душу…
Сама суть моего чувства к Ирен коренится в интуиции, в безрассудном, интуитивном представлении другой Ирен, которой она сама не знает, – той, что открывается только мне. Более того: лишь в соприкосновении с ней я сам себе открываюсь до конца. Какая-то взаимная избранность… Она как будто этого не хочет видеть…
Возможно, что любовь к себе и к другим – одно и то же, и любим мы в других людях и даже в животных ту же божественную сущность, которая есть во всем существующем. Эволюция человечества тогда означала бы развитие этой любви, любви вообще…»
В долгие тюремные месяцы в ожидании суда и смерти Борис читает книги по философии, учит языки, пишет письма жене, заклиная ее и родных не жалеть его, не горевать о нем:
«Ни одиночество, ни тишина меня никогда не страшили, а уж безделье мне никак не угрожает: никогда моя внутренняя жизнь не была столь напряженной, интенсивной.
…я испытываю тайную радость, чувствуя, что полностью сохранил всю жажду жизни, что во мне не убывает жизненная сила… что тюрьма не отняла у меня ничего.
И хотя я лишен… внешней… стороны жизни, я все же чувствую, что я безмерно богат. Есть глубокая правда в евангельских словах: «Царство Божие внутри нас».
…именно в иррациональном познании мира человеком я вижу сущность любви… Любовь – состояние души, когда реальное открывается человеку через духовное…
Может быть, я говорю не совсем ясно, но я на это и не претендую. Я рассчитываю на вашу любовь, она поможет вам понять меня, ибо любовь есть понимание и самое большое откровение…
Я ни в чем не отрекаюсь от прошлого… Нет ничего случайного, все предначертано.
Вспомните хотя бы о непредвиденном чуде нашей встречи, нашей любви – как же тут не верить в судьбу?»
Ирен навестила мужа в тюрьме 23 февраля. Когда она ждала его внизу, чтоб попрощаться, в камеру вошел прокурор, чтобы сказать Борису несколько слов по-немецки. Борис спустился вниз и с улыбкой объяснил обеспокоенной жене, что просто хотел еще раз ее поцеловать… Она успокоилась. Но он уже знал, что они не увидятся больше…
…Былой дом Лотов давно уже сломали. Вдова Бориса и много десятилетий спустя продолжала жить на той же улице Вильде, на седьмом этаже многоквартирного дома, храня несколько листков, вырванных им из тетради при их прощании:
«Простите, что я обманул Вас: когда я спустился, чтобы еще раз обнять Вас, я уже знал, что это будет сегодня. По правде говоря, я горжусь своей ложью: Вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда. И я иду на смерть с улыбкой, как на новое приключение, может быть, – с некоторым сожалением, но ни угрызений совести, ни страха во мне нет…
Моя дорогая, думайте обо мне как о живом, а не как о мертвом… Придет день, когда Вы уже не сможете жить без меня, без моих писем, без воспоминаний обо мне. В этот день мы соединимся с Вами в вечности, в истинной любви…»
Вот и все… Такой вот «русский мальчик» жил в крошечном Фонтенэ-о-Роз. Может, этого хватило бы, чтоб прославить любимую им Францию, Французский Остров, узенькую деревенскую улицу Вильде.
На той же улице, в доме № 8 (который, может, со временем станет музеем), жили люди вполне знаменитые. Сначала жил здесь писатель Гюисманс, потом поселился художник Фернан Леже, а с конца 70-х годов XX века и до самой своей смерти – в 1997 году – здесь жил русский писатель-эмигрант Андрей Донатович Синявский с супругой своей Марьей Васильевной Розановой. В этом доме супруги Синявские издавали добрых два десятка лет русский журнал «Синтаксис», так что дом № 8 вошел в русскую литературу и в эмигрантскую журналистику. Конечно, читателю, пришедшему в наш лучший из миров лишь во второй половине XX века или даже позже, непременно надо напомнить, что значило для читающей (хотя бы газеты читающей) публики имя Синявского в конце 60-х годов минувшего века. Прежде всего это было имя человека, ставшего жертвой судебного процесса, вошедшего в историю как «Процесс Синявского и Даниэля». Писателя Андрея Синявского и писателя Юлия Даниэля судили в Москве за то, что они на протяжении нескольких лет передавали на Запад для печатания свои художественные произведения, подписанные псевдонимом. Синявский подписывался Абрам Терц.
Конечно, это был далеко не первый московский процесс над интеллигентами – большевики судили своих подданных, сажали в тюрьму, пытали и даже расстреливали сотни и тысячи раз и за меньшие «акты предательства Родины» (во французской исторической науке существует даже понятие – «московские процессы»), но к концу 60-х годов большевистская диктатура настолько ослабела, что даже ножкой не могла топнуть достаточно устрашающе, так что процесс получился странным и непривычным, а самая эта затея с «показательным процессом» прогремела на весь мир и стоила послушной Французской компартии не меньших потерь, чем, скажем, карательная экспедиция советских танков в мирную Прагу в 1968-м.
Чем же таким отличался процесс Синявского – Даниэля от предшествовавших им «процессов устрашения»? Прежде всего тем, что подсудимые не испугались, во всяком случае, не подали виду. Понятно, что на сей раз их не били, не пытали, но это уж подробности закулисно-подготовительной техники, а на поверхности – вот: они не каются (в отличие от былых твердокаменных ленинцев), не обливают себя грязью, не топят друзей, даже не признают себя виновными. И свидетели не рвутся их топить. Иные, рискуя собственной жизнью и карьерой (как старенький профессор Дувакин), грудью встают на защиту «злодеев». И дерзкие разговоры идут по тесным московским квартирам и некоммунальным уже кухням. В общем, что-то новое носится в воздухе… Помнится, сидел я в один из дней процесса на московской кухне (в квартире покойного уже в ту пору С.Я. Маршака), беседовал с английским стариком социалистом Э. Хьюзом, который привез очередную груду ксероксов (невиданная новинка), чтоб я перевел их и слепил из них от имени Э. Хьюза нечто вроде биографии Б. Шоу (я не знал еще, что они на Западе привыкли к таким вот «негритянским» услугам, это было мне в новинку, но сынок подрастал и уже что-то соглашался съесть, хотя и со скандалом). И вот в самый разгар нашей вежливо-хитроумной беседы о трудностях «перевода» прибежал корреспондент супербратской английской газетки «Дейли уоркер» (кажется, это был Темпест) и стал с восторгом, взахлеб рассказывать, как отважно борются московские интеллигенты против неправого, подъяремного суда, – ну и ну…
Вот как вспоминал об этом процессе три десятилетия спустя писатель Василий Аксенов:
«…Для той же самой России в ее какой-то, может быть, почти не существующей или совсем не существующей, но витающей над нами астральной модели, иными словами, для «идеалистической России», имя Синявского вместе с Даниэлем навсегда останутся символами борьбы и даже победы. Судилище 1966 года вместо того, чтобы запугать, открыло в обществе существование какого-то труднообъяснимого резерва свободы, то ли уцелевшего со старых времен, то ли накопившегося заново».
Не знаю, что уж там за свободы могли упомнить «со старых времен» наши с Аксеновым сверстники, но только пошло-поехало (с этого знаменитого процесса все и пошло). Уже отсидевший за самодельный журнальчик стихов «Синтаксис» свой первый срок, юный и бесстрашный Алик Гинзбург с ходу стал собирать «Белую книгу» откликов на процесс, причем в открытую предъявил ее властям и схлопотал за это свой новый срок (увы, не последний). Мой школьный друг Боря Золотухин пошел тогда в казенный суд защищать Гинзбурга, а другие собирались на кухнях, злопамятно вспоминая: а что там, кстати, записано в сталинской Конституции и в Декларации прав человека (которая, может, и про нас писана)? В общем, интеллигенция стала качать права, да и могучие правоохранительные органы оказались при деле, том самом, что было завещано Ильичем, – «расширять массовидность» и никуда «не пущать»… Иногда думаешь – не вытащили бы власти на свет Синявского, никто бы в целой Москве никогда и не услышал о нем (а на Западе, где столько книг, никто б и не прочел тем более). Но тогда сколько людей осталось бы не у дел. А так – процесс, борьба – жизнь идет, шевелится…

АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ И ЮЛИЙ ДАНИЭЛЬ В ЗАЛЕ СУДА
Синявский и Даниэль в ореоле мученичества были угнаны в лагеря, но там, хвала Господу, уцелели, выжили. Может, уже не совсем те были лагеря, что в 30–40-е годы, а может, помогало им отсутствие чувства вины – все же не враги они были своему народу, а просто писатели: писатель пишет и должен печататься, а органы тут ни при чем. И литература вообще занятие особое. Синявский так и записал в лагере:
«Произведение искусства ничему не учит – оно учит всему. Произведение не в пользу ни того, ни другого, ни третьего. Ни даже в пользу себя. Оно обратимо в своей полезности, в своем воздействии на сердца. Чему служит «Демон» у Лермонтова – атеизму или мистицизму? Сперва тому, потом этому».
Поразительная картинка лагерной жизни: приходит человек после рабской работы, после лагерной столовки, садится в уголке или в сторонке от барака – и пишет:
«Метафора – это память о том золотом веке, когда все было всем. Осколок метаморфозы».
Записи свои Синявский отсылал жене в письмах. Потом из них получились книги – «Голос из хора» и «Прогулки с Пушкиным» (написаны в Дубровлаге – а с кем же ему там было гулять, как не с Пушкиным, он был филолог, литературный человек, кандидат наук, знаток Горького, яростный поклонник Маяковского, которого ценил за его искреннюю революционность, прощая ему пошлые агитки, его дружбу с ГПУ и его совместные с Бриками шалости…).
Лагерная книга Синявского «Голос из хора» вышла в 1973 году, почти одновременно с могучим и яростным «Архипелагом» Солженицына, все затмившим. Но и у Синявского были свои читатели, грамотные, утонченные, не слишком многочисленные…
После пяти лет отсидки вышел на свободу Юлий Даниэль (мне довелось познакомиться с ним вскоре – что за прелестный был человек!), а потом досрочно выпустили на свободу и Синявского. Здешняя пресса не раз писала, что супруга Андрея Донатовича сумела провести переговоры с Властями об освобождении мужа и об их отъезде за границу на каких-то там самых льготных условиях (видимо, какие-то условия ставились). Что ж, сам Синявский тоже ведь не раз вел с Ними переговоры. Он считал, что эти игры возможны и что Их даже можно переиграть (все надеются «переиграть» казино Монте-Карло)… С другой стороны, с кем же ей (супруге) еще было договариваться, как не с Властями? Раз уж можно договориться. В сталинскую эпоху чуть не все литераторы (от Пастернака до Мандельштама) пытались договориться – не всем удалось выжить. В общем, об «условиях» мы ничего не знаем, но мужа надо было выручать…
Синявские уехали во Францию и поселились в Фонтенэ-о-Роз, в доме на улице Вильде. Профессор Синявский стал читать курс в одном из университетов Сорбонны, в Гран-пале. Выходили его книги. С 1978 года супруги стали издавать журнал, позаимствовав у А. Гинзбурга легендарное самиздатское название – «Синтаксис»…
Помню, по Москве ходили романтические слухи – лекции в Сорбонне, битком набитые залы, книги, «Синтаксис», международные конференции… Помню какую-то ночь, когда утонченная дама до утра шептала мне в сонное ухо: «Сорбонна, «Синтаксис», «Крошка Цорес». – «Кто, Цахес?» – «Нет, по-ихнему – Цорес!»
В начале восьмидесятых я поехал в Париж, чтобы успеть к рождению моей парижанки-доченьки. А успев, конечно, побежал на лекцию Синявского в Гран-пале. Я должен был быть ко всему готов – я ведь уже переводил к тому времени роман «Пнин» и писал книгу о Набокове… И все-таки это был жестокий урок эмигрантского смирения. В просторной, на сотни мест, аудитории бывшего павильона Гран-пале нас было человек пять-шесть. Четыре глуховатые бабушки садились за первый стол, заслоняя маленького Синявского от зала (то есть от меня). Одна бабушка каждые четверть часа вдруг начинала смеяться, и тогда Синявский смолкал. Все терпеливо ждали, пока у нее кончится приступ веселья. Потом Синявский снова читал, не поднимая головы от бумаги, – как читал в Корнеле сам В.В. Набоков (который, впрочем, иногда посылал Веру прочитать за него этот вечно юный, Бог знает когда написанный текст). Думаю, корнелские студенты понимали по-русски еще хуже, чем глухие парижские бабушки… Работа есть работа, хорошо хоть несколько человек записались на курс – не то вообще закрывай лавочку.
В перерыве между лекциями я подошел к Синявскому. Я видел его впервые. Он был маленький, косоглазый, вполне улыбчивый. Он сказал: «Да?» Но я даже этого не смог сказать, настолько блистательная парижская реальность не соответствовала «астральной модели». Я прослушал его курс до конца. Он читал о русских сектах, но иногда вдруг начинал рассказывать о собственных встречах с сектантами в лагерях. В общем, это было интересно, хотя, как и Набоков, он был не оратор.
Вышла его книга «Прогулки с Пушкиным», и в эмиграции поднялся несусветный крик – будто в советской печати в эпоху борьбы за «русский приоритет» во всех сферах человеческой деятельности. Конечно, Сталин умер, но Пушкин был вечно живой, как Ленин. И никто из ругателей будто не обратил внимания на то, что Синявский любит этого Пушкина. Что книга его (как сформулировала грамотная супруга самого автора) – это «гимн во славу чистого искусства и свободного творчества». Синявский гулял с Пушкиным запросто, гулял среди лагерных бараков, да и начал он разговор о Пушкине с привычной своей «эстетической провокации»: Пушкин, мол, вбежал в русскую поэзию на тоненьких эротических ножках. То бишь начинал он с эпиграмм и со стишков в дамские альбомы. Ну и, конечно, с дамами умел обращаться. Ничего страшного (любимый поэт Синявского Маяковский не то что начинал, он и кончал коммерческой рекламой), но подумайте, как можно было такое написать о нашем Самом что ни на есть Самом, о нашем Солнце? Ведь Пушкин – это Ленин сегодня, это Наше Все. Кроме того, это был не его, не Синявского, участок работы: раз ты маяковед, то и пиши про Лилю, Нетте, Аграныча, а у нас есть в стране настоящие профессионалы-пушкинисты.
Еще больше Синявский оскандалился с фразой по поводу евреев и России. Евреи в ту пору уже покидали Россию – одни уезжали от обид, другие – с надеждами на тот край холма, где трава еще зеленее. Синявский, сочувствуя первым, произнес совершенно ужасную фразу: «Россия-мать, Россия-сука, ты еще поплатишься и за это, выкормленное тобою и выброшенное на помойку, дитя». Боже, что тут началось! Ну, помойка ладно, Запад гниет, но обозвать сукой нашу мать, мать нашу… Всем стало ясно, что даже за границей литература не может быть беспартийной (как и предупреждал Ленин). В эмиграции было четыре журнала, а партий даже больше, и все патриотические. Каждая из них критиковала остальные, и критика была вполне партийной, а простая терпимость стала даже называться мерзким, явно нерусским словом «плюрализм». Больше всех доставалось от всех партий Синявскому, который поднял хвост и на Пушкина, – такого никому нельзя простить.
Дальше – больше: покатилось яблочко… Позволяли себе иногда Синявские и журнал «Синтаксис» кое-какие критические замечания по поводу, скажем, солженицынской «борьбы с русофобией» (для усиления этой борьбы даже были созданы в эмиграции какие-то ныне вполне забытые национал-большевистские журналы). Синявский сказал однажды, что, сколько он живет во Франции, никакой русофобии не замечал, и был тут же заклеймен за это как главный плюралист, литературный хулиган и русофоб. Может, он уже догадался, что слово «русофоб» создано было на смену устаревшим терминам «безродный космополит», «беспачпортный бродяга» и «убийцы в белых халатах», однако все же кличка эта, «плюралист-русофоб», его обижала. Вот как рассказывала об этом его лондонская подруга Наталья Рубинштейн:
«…Несмотря на то, что Синявского прорабатывали чуть ли не ежемесячно… у него никак не вырабатывался иммунитет к этим нападкам. Он – к моему огорчению – искренне расстраивался.
Более здраво относилась, вероятно, к дружной и ни с чем не соразмерной этой хуле супруга Синявского М.В. Розанова. Ведомый ею журнал «Синтаксис» не просто отругивался, но и ловил оппонентов на их знакомых до зевоты старинных дворовых фобиях. И то сказать, оппоненты подставлялись без особых хитростей, с сознанием силы и с верой в темное будущее. Может, предчувствия их и не обманывали – и то уж, сколько можно терпеть всем вместе, без малого двести лет…
Вообще, надо сказать, что при наличии столь малого числа сотрудников (один, точнее, одна) русский журнал в Фонтенэ-о-Роз («Синтаксис») выходил очень интересный. И написано все было здорово – высокий класс. Вообще, как поглядишь, грамотный народ плюралисты, и родным языком овладели, хотя, конечно, не все сто процентов из них смогли бы стопроцентно доказать чистоту своей русской крови (сам-то Синявский, конечно, смог бы).
К завершению шестого десятка лет своей жизни написал Андрей Синявский новый большой роман, который принес ему новые большие хлопоты. Это самое обширное произведение Синявского и как бы даже итоговое. Так сказать, итог жизни изгнанника с пригородной улицы Вильде в Фонтенэ-о-Роз, хотя, строго говоря, до конца жизни ему оставалось еще добрых полтора десятилетия:
«Костром потягивает. Дымком. Каштаны…жгут листву. Я свободен от ностальгии. Осень у них во Франции. Понимаете, так же как в России у нас, у них – осень. И жгутся листья, готовятся к зиме. Разве что вздохнешь глубоко, и приятно задышать. Сентябрь. Серебряный век. Эмиграция.
Если б и впустили обратно, с гарантией, что не убьют (я иногда воображаю), и пиши, что хочешь, я бы, наверное, все равно не вернулся…»
Это из романа «Спокойной ночи». Роман автобиографический, жанр его точно не обозначен, и только из письма одной из героинь романа можно понять, что в нем «личности и события во многом изображены в фантастическом духе».
В первой части романа А. Синявский рассказывает о своем аресте в 1965 году за публикацию книг за границей, о допросах на Лубянке, во второй части – об ожидании ареста, о лагерном Доме свиданий, о жене, о любви, о браке. Третья часть посвящена отцу, партийному работнику, который был арестован в 1951 году, а позднее реабилитирован. Ну а четвертая часть посвящена в основном Сталину, мистике и эзотерике власти («Что власть без тайны, без чуда? – Механическая сила, и не более того… Я родился под созвездием «Сталин – Киров – Жданов – Гитлер – Сталин» – и далее со всеми подробностями)…»
Понимаю, что пересказ такого романа может быть только очень приблизительным, ибо это вольная проза и в ней там и сям говорится обо всем, и я не могу даже с уверенностью сказать, где там, в этой автобиографической, до крайности печальной прозе, кроются какие-нибудь экскурсы в область фантазии. Фантастической является сама описываемая действительность, но она вполне узнаваема. Самой фантастической является, пожалуй, последняя, пятая часть романа («Во чреве кита»), и я попробую хоть вкратце пересказать ее содержание. В юные годы у Андрея был друг С., который пленил его своей образованностью, начитанностью и ранними догадками о сущности советской диктатуры. Мало-помалу выясняется, что человек он жуткий и вдобавок стукач. Кроме стукача С., в пятой части романа появляется прелестная француженка, дочь военно-морского атташе французского посольства в Москве. Ее зовут Элен. Она поступает учиться на филфак МГУ, знакомится с Андреем и относится к нему с симпатией. К С. она относится с меньшей симпатией, и он, понятное дело, на нее стучит в КГБ. Но и Андрей на нее стучит туда же (и это, конечно, слегка шокирует читателя: все же как-никак Синявский – Даниэль, но что поделать, время было суровое и подлое – 1947-й, самая борьба с русофобами. К тому же герой наш вступает в некие игры с Великой Организацией, надеясь ее переиграть). Органы хотят, чтобы Синявский женился на француженке, и тогда они ее убьют (зачем это им нужно вообще и почему нельзя убивать в натуральном виде, не очень понятно). Андрей решает спасти Элен от смерти, предупредив, что он, извините, стукач, что она не должна выходить за него замуж (кстати, неясно, хотела ли она вообще выходить за него замуж?) и что она должна сообщить о своем отказе органам через доносчика С. (который в отличие от Андрея, вероятно, знал, что браки советских граждан с иностранками и вовсе запрещены). Элен уезжает на родину, где ей больше не грозит смерть от брака, но и это еще не конец. Органы требуют, чтобы Андрей вызвал Элен в Вену, сажают его (доселе «невыездного») в пустой военный самолет и везут его в столицу Австрии, чтобы он там, бродя по городу, разыскал Элен и убедил ее вступить в брак. История настолько абсурдная, что приходит в голову, будто нечто в этом духе действительно могло происходить. Но что именно? Где тут элемент автобиографии и где фантазия? Единственный бесспорный элемент – стукачество героя, и то оно как-то наспех проговорено: мол, дело обычное, дело нормальное…
Выход в свет последнего романа Синявского развязал в эмигрантской прессе новую жестокую полемику о том, кто больше стукач и кто больше русофоб. Из небытия выплыл вдруг живой (да еще и живущий в Германии) прототип отрицательного героя – С., который объявил, что да, это он, Сергей Хмельницкий, был стукачом (Был, а перестал ли быть? Хмельницкий незамедлительно вернул тот же вопрос Синявскому в длинном письме…), но теперь вот Синявский его прославил (кстати, не назвав в романе его фамилию – обидно) и он, Хмельницкий, больше не хочет возвращаться «во мглу неизвестности», он умоляет «не казнить его молчанием», так что давно пора его простить и уделить ему хоть частицу известности, абы какой. Хмельницкий написал длиннющее письмо, один из эмигрантских журналов письмо это предал гласности, а остальные незамедлительно вцепились в штаны беспечному публикатору. И то сказать, тема оказалась животрепещущей. Интеллигентская Россия много десятилетий жила в атмосфере шпиономании и стукачества. Если в единственной из так называемых «социалистических» стран, решившейся после падения режима вытащить на всеобщее обозрение свои тайные досье (ГДР), стукачом оказался чуть не каждый седьмой гражданин, то что же творилось тогда в бедной параноической Совдепии? Тогда в России и за рубежом одна за другой стали выходить книги бывших стукачей всех рангов. Они поливали себя помоями, жалуясь, как и С. Хмельницкий, на муки безвестности. Все рекорды побил ленинградский критик-стукач В.И. Соловьев, выпустивший то ли три, то ли четыре издания своих стриптизерских «записок стукача» под завлекательным названием «Три еврея»…
Синявский мирно писал о Маяковском. Намеки на это содержатся в его последнем романе, где он так говорит о возлюбленном своем кровожадном «горлане-главаре»: «В нем одном, самоубийце, тлел неукротимый и праведный уголь революции ее начальной стадии, вносивший, отголоском, что-то истовое и возвышенное в нашу кондовую, комсомольскую доблесть». Может, Синявский даже издал бы со временем сборник революционных песен и маршей («Вихри враждебные…», «На бой кровавый…»), недаром же в конце его книги возникает вдруг лирическое обращение к милой француженке Элен: «Ты знаешь, даже сейчас, когда я заканчиваю этот роман и начинаю по временам, чисто физически, выдыхаться, я подбадриваю себя, мысленно, этими песнями. «Марш, марш вперед, рабочий народ!..»
Читаю и думаю: не случись Процесса, стал бы Синявский еще одним доктором маякововедения, но так все же не случилось. Да и Марья Васильевна не допустила бы такой жизненной неудачи. Она не нимфа ручья, не эгерия, она вдохновительница самых дерзостных «проектов». Она не возражает, когда ее называют (вполне любовно) ведьмой, охотно рассказывает анекдот про покупку метлы в хозмаге, где продавец ее спрашивает: «Вам завернуть? Или так полетите?»
…Сам я сподобился лишь единожды побывать в доме Синявских на улице Вильде, в начале 90-х годов прошлого века.
Синявский был не слишком-то хорош уже и в пору моего визита в Фонтенэ. Но он еще успел потом съездить в Россию, посетил Псково-Печорский монастырь, помирился со своим эмигрантским врагом Владимиром Максимовым (который тоже сгорал от рака). Оба они с ужасом восприняли весть о том, что «молодая российская демократия» в упор расстреливала свой собственный парламент…
Хозяин дома № 8 умер в 1997 году. Конечно, оставшаяся в одиночестве вдова не голосила по покойнику, она и в тяжкую минуту осталась верна их «провокативной эстетике». Вот как описывает свое прощание с Синявским писатель Петр Вайль:
«В трехэтажном доме на улице Бориса Вильде все было так же, но Марья Васильевна повела на второй этаж, где в окружении икон, книг, подсвечников в виде купчих, прялок стоял на подставках гроб. В гробу лежал Андрей Донатович с пиратской повязкой на глазу.
–?Вот мы теперь какие.
Строго говоря, в повязке лежал Абрам Терц. Это он при жизни любил прохаживаться по комнатам, нацепив «Веселого Роджера», и именно это имела в виду его вдова, устраивая макабрический карнавал. Ведь 25 февраля 1997 года умер один человек, но два писателя – Андрей Синявский и Абрам Терц…
–?Вот мы теперь какие, – сказала Марья Васильевна, и вслед за ней я стал спускаться по лестнице.
Синявский остался лежать, задрав бороду, в голубой полосатой рубашке, застегнутой под горло, в черной флибустьерской повязке Абрама Терца с черепом и костями на левом глазу. Проверял – полезно ли писателю умирать».
У того же Вайля есть и описание погребения на муниципальном кладбище Фонтенэ-о-Роз:
«Знаменитый поэт, давно освоивший похоронный жанр, привез горшок с землей с могилы Пастернака. Хочется думать, что земля набиралась из фикуса в посольстве – иначе пастернаковская могила должна напоминать карьер. Горшок опростался в яму, и тут Марья Васильевна прервала речи, сказав, что покойный был человек антиторжественный и веселый, поэтому пора идти в дом – выпивать, закусывать и рассказывать анекдоты, которые он так любил».
Вайлевское описание похорон я нашел в номере 36 «Синтаксиса», но бдительно просмотрел после этого все прочие отчеты о грустной церемонии в Фонтенэ-о-Роз и, конечно, нашел разночтения (как может быть иначе у плюралистов?). В очерке Зиновия Зиника в том же номере «Синтаксиса» никакого горшка не было упомянуто, но зато был упомянут пакет. И поскольку у Зиника назван был по имени поэт (и без того очень известный), а также упомянут какой-то их там плюралистический кадиш и развернута мысль о наилучшем обслуживании писательских похорон, я приведу и лондонскую (зиниковскую) версию – тем более что уходить от дома № 8 мне пока неохота:
«На похоронах Синявского поговаривали, что, мол, в главной синагоге Одессы поют кадиш по Абраму Терцу, и поэтому вовсе не ясно, чье тело хоронили в парижском гробу.
Но не в том дело. На кладбище речь над могилой Синявского произносил поэт Андрей Вознесенский. В руках он держал пластиковый пакет и с этим пакетом, как я заметил, ни на секунду не расставался. Пакет оттопыривался: он был, похоже, набит какой-то снедью – такие пакеты носят с собой «органики», сидящие на специальной диете из отрубей с фасолью. Закончив надгробную речь, Вознесенский засунул руку в пакет и вытащил оттуда – кто бы мог подумать? – землю. Поэт объявил, что это горсть родной земли, которую он привез на могилу писателя на чужбине. Довольно увесистая горсть: с полкило. И не просто российской земли, а земли из Переделкина, – видимо, потому, что хоронили все-таки писателя. А поскольку Синявский изучал творчество Пастернака, все присутствующие поняли, что переделкинская земля – с могилы Пастернака. Моя подруга, парижанка Ира Уолдрон, сказала, что не впервые встречает Вознесенского на похоронах писателей-эмигрантов. Можно даже сказать, что он был на похоронах всех писателей, скончавшихся на чужбине в последнее десятилетие… И всюду с ним пакет родной земли. Все оттуда же, как я понимаю, с могилы Пастернака. То есть Вознесенский просто-напросто гробокопатель. Скоро от могилы ничего не останется. С чем ездить на похороны за границу?»
Учитывая, что писатели не перестают умирать и «спрос на горсть земли с могилы великого человека был, есть и всегда будет», писатель-гуманист З. Зиник предлагает как-то упорядочить это дело и открыть специальный магазин, где будут продавать в баночках землю с могил великих людей. У Зиника есть несколько разнообразных идей по части упаковки и обработки могильной почвы, но в целом все они в духе «макабрических» похорон в Фонтенэ-о-Роз и журнала «Синтаксис». И не эти мелочи занимают мой праздный ум, пока я стою перед домом № 8 на улице Бориса Вильде. Как человек серьезный, с креном к зарубежному туризму, я думаю о музее. Конечно, со временем здесь можно будет открыть Дом-музей Синявских или Дом-музей идейной (или безыдейной) борьбы в эмиграции. Еще лучше было бы открыть музей «Русские 60-е годы XX века». Но кто даст деньги, кто станет спонсором?.. У меня есть кое-какие идеи. Если объявить, что на печатном станке в подвале Синявских печаталась брошюра Троцкого «Женский перманент и революция», деньги потекут со всех сторон (здесь несколько троцкистских партий, в том числе и нелегальных, и они не перестают трясти зажиточных евреев). Во всяком случае, деньги найдутся, было б желание. А оттого, что я буду стоять вот так столбом и мерзнуть перед грустным домом № 8 в Фонтенэ, от этого дело не сдвинется…
- ГДЕ МОРОЗ, А ГДЕ ЖАРА
- Гольбейн, Амброзиус
- Гроза не пощадила городовых
- I. Где мороз...
- *Казанлык и Долина роз
- Шведы грозили сжечь город…
- Петрозаводская улица
- Роза, Сальватор
- Ларгу да Роза и церковь Сан Криштован
- Морозы с Востока
- Борозда (Молчаново, Преображенское)
- Петербург в незаконченных прозаических отрывках Пушкина