Книга: По следам литераторов. Кое-что за Одессу
Глава 13 Выглядывающий из вечности и неисправимый жизнелюб
Глава 13
Выглядывающий из вечности и неисправимый жизнелюб
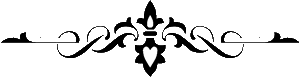
Теперь мы идём – точнее, наверное, всё же едем – к дому, где жил свояк Багрицкого. Наш путь, как и обещано, на улицу Олеши. Из всех упомянутых в этой книге литераторов, в чью честь в Одессе не забыли назвать улицы, только Олеша действительно жил на улице, переименованной в его честь в 1987-м году. Для протокола: на протяжении 60 лет до этого она была (как мы упоминали) Лизогуба, а до этого Карантинной. Возможно, Олеша не удостоился бы «своей» улицы, либо – как Ильф и Петров, Чуковский, Мицкевич и т. д. – не там, где жил, но выручила особенность Карантинной улицы. Она прерывается между Бунина и Жуковского, поэтому два квартала от Карантинного спуска до Бунина назвали улицей Олеши, а двум кварталам от Жуковского до Троицкой вернули название «Карантинная». Как говорится – «всем сестрам по серьгам».
«Кстати, о сёстрах», – как сказал бы дешёвый конферансье. Багрицкий и Олеша были женаты на дочерях Густава Суока (австрийца по происхождению) – Лидии и Ольге соответственно. Подробнее об этом и о третьей сестре – Серафиме – расскажем на улице Олеши. А пока посмотрим, что мы видим по дороге к его дому, поскольку для сравнительно небольшого исторического центра Одессы путь наш неблизкий: 8 полновесных кварталов и одна половинка – почти по Феллини.
Итак, по порядку. По диагонали от дома Багрицкого – Румынское консульство, а на самом углу – памятник классику румынской литературы Михаилу Георгиевичу Эминовичу (Михай Эминеску): он непродолжительно жил в Одессе в 1895-м. Впрочем, «непродолжительно» в Одессе жила масса классиков различных литератур. Так, обнаружив в Праге мост Святоплука Франтишековича Чеха (тоже классика, но чешской литературы, естественно[485]), Владимир вспомнил, что пять лет ходил – по дороге в институт – мимо дома № 4 по площади Советской Армии, где на фасаде была мемориальная доска этому писателю и поэту.
Судьба Михая Эминеску очень печальна. Он не закончил гимназию в Черновцах (тогда – административный центр Буковины в составе Австро-Венгрии), был вольнослушателем в Венском университете, слушал лекции в Берлинском университете, при жизни издал один сборник стихов в 1883-м году. Тогда ему было 33 года, но он уже страдал от психического заболевания – и от него умер в психиатрической лечебнице Бухареста 6 лет спустя, прожив 39 лет. Его называют «утренней звездой румынской поэзии», памятники и бюсты ему ставят повсеместно – от Монреаля до Одессы (в одной Молдавии их семь).
В Одессе с бюстом приключилась «неприличная история» – его украли в 1994-м. Вряд ли чтобы украсить дачу[486] – скорее просто польстились на вторсырьё. Нынешний бюст установлен в 2011-м и находится под контролем камер слежения консульства.
От консульства можно пройти пару шагов к дому № 32 по Осипова – в нём жил уже упоминавшийся первый мэр Тель-Авива Дизенгоф. Теперь идём к началу улицы. По дороге обратим ваше внимание на дом по Осипова, № 21 – изящное здание Синагоги портных, построенное в 1893-м году на деньги купца Моисея Карка. Синагога закрыта в 1920-м, но возвращена иудейской общине в 1992-м. Мы уже видели Главную синагогу на углу Ришельевской и Еврейской (см. главу 5). Эта принадлежит более богатой и более активной хасидской общине: хотя само здание и меньше, «посещаемость» явно выше. С той же стороны два роскошных угловых дома. Рядом с синагогой дом побольше – в сторону Канатной за счёт уклона он и вовсе превращается в шестиэтажный[487]; серый напротив – четырёхэтажный; сложно сказать, какой красивее.
Пару минут постоим у дома № 6. На нём мемориальная доска с профилем ювелира Израиля Хацкелевича Рухомовского. Он, как сказано на доске, изготовил «Золотую тиару скифского царя Сайтаферна». На доске и сама тиара в руках ювелира. Детальный рассказ об этой авантюре отнимет много времени. Поэтому за подробностями отправляем на сайт Баден-Баденского музея Фаберже[488], а здесь изложим историю кратко.
Сам ювелир причастен к ней только как исполнитель – его, выражаясь языком авантюристов братьев Гохман, «разыграли втёмную».
Изготовленную якобы для подарка тиару Гохманы выдали директору Лувра Кемпфену за находку из скифского кургана. Он признал её подлинной. В 1896-м году современных методов датировки ещё не было, а греческий орнамент, сотни деталей, фигур, искусно сделанные мастером на основе изучения массы научных материалов по археологии, предоставленных ювелиру Гохманами[489], говорили о подлинности. Сумма, запрошенная за «чудо греческого ювелирного искусства» – так отозвался о приобретении руководитель отдела античного искусства Эрон де Вильфосс[490] – требовала одобрения партамента (!). Но мошенники получили желаемые 200 000 франков, изобразив спешку и заставив правление музея занять деньги у двух известнейших меценатов Франции.
Однако уже в мае того же года петербургский профессор Александр Николаевич Веселовский заявил, что тиара – подделка. Разбирательство шло семь лет (!), пока в Париж не пригласили самого Рухомовского. С одной стороны, его знаний по археологии вроде бы явно не хватало для изготовления тиары. С другой стороны, за несколько часов он абсолютно точно изготовил фрагмент изделия[491]. Комиссия убедилась в авторстве Рухомовского, он – в зените славы – переехал в Париж, тиара же из Лувра передана в Музей декоративного искусства в Париже. Практически happy end. Более великого изделия Рухомовский не создал, но если снова заговорить на языке братьев Гохман: «Кому мало – прокурор добавит».
Дом № 4 мы упоминали в Книге 1 (стр. 252) в связи с жившим в нём дважды Героем Советского Союза Степаном Елизаровичем Артёменко. А ещё, если верить Интернету[492], в этот дом семья Багрицких переехала из дома почти напротив – № 3 по Осипова, где (по данным этого же сайта) Багрицкий родился. Так это или нет, нам не слишком важно: ведь мы прошли и мимо дома по Базарной, № 40, и мимо дома по Осипова, № 3. С Гомером, чьей родиной назывались семь греческих городов, в любом случае сложнее.
На Еврейской мы не подходим к памятнику Гоцману, а только отсылаем к Книге 1 (стр. 252–253). Мы сразу сворачиваем на Польскую, чтобы пройти по ней два квартала до Бунина (снова улица Бунина – так «работает» прямоугольная сетка улиц нашего центра). В первой половине XIX века на ней было много амбаров с зерном, принадлежавших польской шляхте. Рядом были и их особняки. «Амбары строились в классическом стиле и внешне выглядели красиво. Сложно было представить, что за этими стенами хранится зерно. Даже дома шляхтичей выглядели по сравнению с ними немного невзрачно», – сообщает знаменитый одесский краевед и Почётный гражданин Одессы Олег Иосифович Губарь[493] Потом зернохранилища в центре стали экономически необоснованными. На одной из освободившихся площадок возник Русский театр (см. главу 2), на Польской – доходные дома.
На первом этаже одного из них – № 19 – уникальный «Одесский муниципальный музей личных коллекций имени А. В. Блещунова». Александр Владимирович был руководителем проблемной лаборатории нашего родного Холодильного института, фактически родоначальником одесского альпинизма (его именем названы пик и перевал на Памире) и неутомимым коллекционером. «Звёзды сошлись» в 1989-м[494]: 1989–01–28 организован – ещё при жизни Блещунова – первый и пока единственный на Украине музей личных коллекций. Александр Владимирович успел поработать его директором два года и ушёл из жизни в 76 лет в 1991-м. Друзья альпинисты к столетию со дня его рождения выпустили интереснейшую книгу воспоминаний «Он в даль иную поманил». Очень советуем побывать в музее. Даже сейчас он поражает не только качеством, но и плотностью экспонатов на квадратный метр – а ведь сегодня его площадь раз в пять больше той, которой располагал коллекционер в своей квартире, где ещё и жил.
На углу с улицей Жуковского[495] 10-этажка с – как водится – 18-ю организациями (из них самая «одесская» – по крайней мере по названию – салон красоты «Городские пижоны»). По диагонали – в здании бывшей Конторы Государственного банка Российской империи – Главное управление статистики в Одесской области. С угла Бунина и Польской можно разглядеть на углу Пушкинской и Бунина два упомянутых в предыдущей главе здания архитектора Бернардацци – Новую Биржу и гостиницу «Бристоль», детально описанные Анатолием в Книге 1 (стр. 9–15). А на самом углу ниже гостиницы «Бристоль» массивное серое здание с крупной рустовкой. По имперскому стилю безошибочно узнаётся архитектор Прохаска. Это «квинтэсенция» его стиля – мощное здание Городского ломбарда. Из размеров следует грустный факт: сколько людей нуждалось в услугах этого, можно сказать, печального заведения.
На углу Польской и Бунина начинается Польский спуск. Он привёл бы нас на Таможенную площадь и к центральному входу в Одесский морской торговый порт. Вход этот, украшенный бюстами де Рибаса и де Волана, как и Таможенную площадь, мы описали в Книге 1 (стр. 262–264). Применительно к теме экскурсии отметим, что в доме № 4 по Польскому спуску до революции была ночлежка, где останавливались и Максим Горький, и Александр Грин. Горький немного (как сейчас бы сказали) «потусовался» в порту, а потом продолжил свои походы по России. Грин – после некоторых препятствий – попал-таки на пароход и даже побывал за границей. Но про Грина и Горького подробно не будем: всё же Одесса была в их жизни эпизодом.
Для справки – в советское время Польская носила имя Гарибальди, к тому же была на квартал длиннее. Теперь квартал от Дерибасовской до Греческой назван именем президента Польши Леха Александра Раймундовича Ка-чиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском, куда он спешил, чтобы вписаться в окно прямого эфира одного из крупных польских телеканалов. Так мы получили и самую короткую улицу города, и Польскую, начинающуюся с № 10. Сам Гарибальди действительно бывал в нашем городе. Правда, не в качестве освободителя-объединителя Италии, а как простой моряк. Как-никак, он родился в Ницце, так что стать моряком для него вполне логично[496].
На перекрёстке Бунина и Польской поворачиваем направо на мост, названный в честь уже упомянутого генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии Павла Евстафьевича Коцебу. Мост построен в 1889–1890-м годах, причём в Одессе его только собирали, а изготовили во Франции на том же предприятии, что и детали Эйфелевой башни. Более того, судя по датам строительства моста и башни, происходило это ещё и в одно и то же время: прекрасный материал для заготовки вопроса «ЧГК».
С наружной стороны на обеих оградах моста в советское время – явно по недосмотру – сохранился дореволюционный герб Одессы: двуглавый орёл в верхней части щита и якорь-кошка в нижней[497]. Было очень «круто» (хотя в этом смысле слово «круто» в нашем детстве не употреблялось), перегнувшись через перила, разглядеть этот герб. Сейчас мост активно реставрируют, обещают восстановить и ограду, и фонари. Так что в какой-то из приездов в Одессу Вы увидите всё в первозданном виде.
Несколько «маленьких забавных подробностей»:
Генерал-губернатор, в чью честь назвали мост, в период своего правления отверг проект путепровода по Полицейской улице.
Рост Павла Евстафьевича – 138 см (невероятно мало даже по тем временам), что не помешало ему до назначения в Одессу быть одним из руководителей русской военной разведки.
После перевода Коцебу на должность Варшавского генерал-губернатора должность Новороссийского генерал-губернатора ликвидируется.
Не менее страшно, чем в детстве, перевешиваясь через перила моста, разглядывать старый герб, сейчас рассматривать с моста Деволановский спуск. Разрушенные цехи бывшего радиозавода «Эпсилон», отсутствие твёрдого покрытия и чудовищные ямы на мостовой – готовая декорация для фильмов ужасов. Поэтому быстро сворачиваем, наконец, на улицу Олеши…
Просим прощения, если сравнение наше покажется рискованным, но улица эта чётко ассоциируется с литературным наследием Юрия Карловича: она маленькая, таинственная, сумрачная, однако в самом конце открывается большая перспектива.
Жизнь самого Олеши прекрасно иллюстрируется парадоксальным выражением «В действительности всё не так, как на самом деле»:
В действительности его родным языком был польский, хотя на самом деле он из обедневших белорусских дворян.
В действительности мы говорим о нём, как об одном из самых мощных одесских писателей, хотя на самом деле он родился в Елисаветграде.
В действительности он был женат на Ольге Суок, хотя на самом деле любил её сестру Серафиму.
В действительности он дал героине сказки «Три толстяка» имя по фамилии любимой женщины, хотя на самом деле посвятил сказку Валентине Грюнзайд.
В действительности он написал одну сказку («Три толстяка»), один роман («Зависть»), одну пьесу («Строгий юноша»[498]) и кое-что «по мелочи», хотя на самом деле писал всю жизнь и писал прекрасно, что доказал выход «в обработке» ещё одного свояка Олеши – Виктора Борисовича Шкловского – его дневников в виде книги «Ни дня без строчки» в 1965-м (через пять лет после смерти) и – в существенно дополненном варианте – как «Книги прощания» в 1999-м[499].
В действительности ему приписывается масса печально-ироничных шуток, хотя на самом деле не меньше половины принадлежит Михаилу Аркадьевичу Шейнкману (Михаилу Светлову), заканчивавшему жизнь примерно так же.
Используя принцип «бритвы Оккама», Дмитрий Быков в уже упоминавшемся курсе лекций «Советская литература просто предположил, что Юрий Олеша попал к нам из будущего[500].
Во-первых, торжествующий нынче в социальных сетях сверхкраткий стиль[501] замечательно освоен Олешей в дневниковых записях в то время, когда остальные ещё писали подробно, развёрнуто и в наше стремительное время нечитаемо. «И эти дневники – гениальная литература, потому что состояние, пойманное в них, прежде в литературе не описывалось; потому что за депрессию, описанную в них, заплачено физическим здоровьем; потому что в них угадан жанр будущего – запись в электронном журнале, без последствий для окружающих, да и для себя, пожалуй»[502].
Во-вторых, Олеша прибыл из будущего, потому что в годы его творчества окружающая среда была для него невыносима и его читатель отсутствовал. Все уже упомянутые писатели одесской школы – и блистательный Бабель, и «лучший советский писатель»[503] В. П. Катаев, и брат его с другом Ильфом – никто из них не оспаривал титула гения именно у Олеши. А он, как гению и положено, слабо приспособлен к эволюционированию и «гений, в отличие от таланта, может работать не во всякое время»[504].
В третьих, Олеша видел то будущее, где в конфликте организатора советского производства Андрея Петровича Бабичева и его приживалы Николая Кавалерова (см. роман «Зависть») неожиданно победил именно Кавалеров. И ничего хорошего от победы этого, вроде бы, тонкого человека не вышло.
А ещё (добавим от себя) он подрабатывал сценариями, как будто подсказывая на будущее другому гениальному, но не печатавшемуся писателю – Фридриху Наумовичу Горенштейну – пристойный способ не голодать.
И в шутках своих тоже использовал образ человека из будущего. Приведём пару примеров.
Олеша пришёл за гонораром без паспорта, и кассир, естественно, не хотела выдавать деньги: «Сегодня один Олеша придёт за деньгами, а завтра – другой». «Не волнуйтесь, – ответил Юрий Карлович. – Второй Олеша придёт лет через четыреста».
В Одессе он стал звать продавца газет из гостиничного номера на втором этаже. «Откуда Вы выглядываете?» – спросил газетчик, думая, как пройти к покупателю. «Я выглядываю из вечности!» – величественно ответил Олеша. Вот уж действительно: в каждой шутке есть доля шутки.
И ещё штрих к портрету. Первый (учредительный) съезд Союза Советских писателей шёл две недели. Соответственно, было много выступлений. Олеша был в числе ораторов. «Речь артистичного Олеши, произнесенная звучным голосом с ораторскими интонациями, произвела на делегатов съезда огромное впечатление. Пронзительная искренность исповеди не могла не потрясти. Недаром молодой Юрий Любимов, годы спустя ставший известным театральным режиссером, выбрал для чтения во время вступительных экзаменов в театральную студию при МХАТе Втором именно эту речь»[505]. «Факт, не имеющий прецедента» – как сказала бы Серна Михайловна (см. «Золотой телёнок», естественно). Впрочем, в Интернете[506] речь эта есть: можете сами прочитать – с любимовской интонацией либо с собственной. Вместе с тем в речи, кроме стандартно-бодрого финала, есть фантастически пророческие куски – их проще всего объяснить именно тем, что Олеша прибыл из будущего, где уже видел свои последние годы:
«Как художник проявил я в Кавалерове наиболее чистую силу, силу первой вещи, силу пересказа первых впечатлений. И тут сказали, что Кавалеров пошляк и ничтожество. Зная, что много в Кавалерове есть моего личного, я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости, и оно меня потрясло.
Я не поверил и притаился. Я не поверил, что человек со свежим вниманием и умением видеть мир по-своему может быть пошляком и ничтожеством. Я сказал себе – значит, всё это умение, всё это твоё собственное, всё то, что ты сам считаешь силой, есть ничтожество и пошлость. Так ли это? Мне хотелось верить, что товарищи, критиковавшие меня (это были критики-коммунисты), правы, и я им верил. Я стал думать, что то, что мне казалось сокровищем, есть на самом деле нищета.
Так у меня возникла концепция о нищем. Я представил себя нищим. Очень трудную, горестную жизнь представил я себе, жизнь человека, у которого отнято всё. Воображение художника пришло на помощь, и под его дыханием голая мысль о социальной ненужности стала превращаться в вымысел, и я решил написать повесть о нищем»…
Немного, как мы обещали, о «Трёх сёстрах»[507].
Старшая – Лидия Густавовна – одногодка Эдуарда Багрицкого. Она успела побывать замужем, но муж – военный врач – погиб на фронте Первой мировой. В 1920-м они с Багрицким поженились. В 1922-м родился сын Всеволод, погибший на фронте уже Второй мировой. Когда в 1936-м мужа младшей сестры – многократно упомянутого в нашей книге Владимира Ивановича Нарбута (крёстного отца «Двенадцати стульев») – арестовали, она пыталась за него хлопотать, за что сама репрессирована. В ссылке – в Караганде – ходила еженедельно отмечаться в управление НКВД, располагавшееся на улице Багрицкого… Реабилитирована в 1956-м, умерла в 1969-м.
Младшая – Серафима – пережила бурный роман с Олешей. Чувства были столь сильны, что Олеша не уехал с родителями в Польшу, а остался в «Совдепии». Неожиданно Серафима выходит замуж за Нарбута (по слухам, он грозил покончить с собой, если она им пренебрежёт). Он старше её на 14 лет, хромой из-за отсутствия пятки на правой ноге и однорукий – кисть левой руки ампутирована после огнестрельного ранения вследствие нападения на дом Нарбутов красных партизан[508].
Как руководитель издательства «Земля и Фабрика», Нарбут издаёт в 1928-м году не только «Двенадцать стульев» Ильфа-Петрова и «Юго-Запад» Багрицкого, но и «Три толстяка» Олеши, написанные четырьмя годами ранее. Сплошная семейственность – если не обращать внимание на беспрецедентное качество всех трёх книг.
А Серафима была замужем трижды. После Нарбута её мужем стал писатель, историк современной литературы (звучит немножко «оксюморонно», но факт) и выдающийся коллекционер Николай Иванович Харджиев. Замужество за ним помогло Серафиме осенью 1941-го уехать из Москвы в эвакуацию. Этот факт «коррелирует» с весьма неприглядным описанием Серафимы – «дружочка» – в «Алмазном моём венце» Катаевым. В большей степени он описывал тех, кто уже ответить не мог, за что «Алмазный мой венец» и критиковали; но такова участь всех, живущих долго и пишущих мемуары под старость, когда современники уже ушли из жизни. Впрочем, Серафима Густавовна была ещё жива: она умерла в 80 лет в 1982-м. Её третий муж – Виктор Борисович Шкловский – пережил её на два года и умер в 91 год в 1984-м.
Самой скромной была средняя сестра – Ольга. Она стала ухаживать за Олешей, крайне тяжело переживавшим измену Серафимы (по некоторым данным, именно тогда он впервые начал серьёзно выпивать). Они оба 1899-го года рождения, но Ольга пережила мужа на 18 лет. Про их отношения рассказывает 40-минутный фильм канала «Культура»[509]. Славная вещь Интернет: всё можно найти. Вот только время в кредит не возьмёшь, да и отдавать – да ещё и с процентами – всё равно бы не получилось.
Дом № 3, где жил Олеша – самый невыразительный на всей улице. Скромный, двухэтажный, без всяких украшений на фасаде. На углу Олеши и Греческой – прекрасный «новострой», хоть и затемняющий и без того узкую улицу. Напротив него – «Лоцманский дом». По диагонали – особняк Алексея Александровича Трапани с совершенно латиноамериканской башенкой (по легенде, с неё он – известный судовладелец – наблюдал за приходом в Одесский порт своих судов). Хорошо смотрятся и другие дома на чётной стороне первого квартала: дом Черноморского торгового флота с соответствующим вензелем «ЧТФ» посредине фасада; современный пятиэтажный дом рядом; здание банка. А вот вся нечётная сторона – скромная и в архитектурном плане, повторимся, слабая.
Но в конце (вернее, начале) улицы неожиданно открывается один из самых романтичных видов на город. Редкий для Одессы неплоский рельеф позволяет обозреть множество известных объектов (здание бывшего Черноморского пароходства, лестницу с Дерибасовской на Польский спуск, Оперный театр и проч., и проч.) в непривычном ракурсе. Открывающаяся панорама требует нескольких минут и, желательно, хорошего бинокля. С точки зрения логистики жаль, что с Дерибасовской не построили мост через Польский и Деволановский спуски, но романтичный вид искупает отсутствие такого моста[510].
От Олеши с его невероятной стилистикой (только про сердце в «Трёх толстяках» три неподражаемые фразы: «Сердце его прыгало, как копейка в копилке», «Сердце его забилось снизу вверх, как будто он не выучил урока», «Сердце его прыгало, как яйцо в кипятке») мы подойдём к дому, где жил писатель совершенно другого направления и мировосприятия. У них с Олешей, живших в двух кварталах друг от друга, были разные Вселенные. Тем интереснее сразу перейти к Александру Ивановичу Куприну.
До дома Куприна по Маразлиевской, № 2 мы проходим от начала улицы Олеши буквально 250 метров направо. На углу Канатной (адрес – Канатная, № 8) – мореходное училище имени Александра Ивановича Маринеско (об училище мы рассказали в Книге 2, стр. 332–333). Напротив него на Канатной, № 6, осколки империи – практически заброшенное очень большое четырёхэтажное здание производственного вида. Когда в Одессе было Черноморское морское пароходство, здесь располагался его производственный комбинат – нужно было шить форму для самой большой судовладельческой компании мира. Поэтому: а) здание такое большое; б) сейчас оно заброшено. А вот отдел кадров пароходства не пустует: напротив дома Куприна у входа в парк Шевченко вместо отдела кадров ЧМП в солидном трёхэтажном особняке разместилось китайское консульство[511].
Итак, мы прошли переулок Нахимова и повернули на Маразлиевскую. На «шикарном» доме в стиле «модерн», срезанном с угла для удобства пешеходов и размещения дополнительных окон (как водится у многих угловых домов Одессы и Барселоны), мемориальная доска и бюст Александра Ивановича Куприна. Разделяет их некстати высунувшаяся веранда очередного кафе, но для решения задачи отступления от исторического облика здания «нужны три вещи: деньги, деньги, и деньги». Бюст справа от веранды выполнен современно, без мелких деталей, но главное в облике писателя передаёт хорошо: что-то мощное, борцовское улавливается сходу. Надпись на большой мемориальной доске слева от веранды сообщает, что в этом доме в 1910–1911-м годах жил русский писатель Александр Иванович Куприн. Никаких эпитетов. Однако Куприн писал в так называемый «Серебряный век» русской литературы: быть просто «русским писателем» во время, когда творили Толстой, Чехов, Леонид Андреев, Максим Горький[512], очень даже немало.
Рассказ об Олеше мы закончили примерами его потрясающих алмазных метафор. Ими «Три толстяка» насыщены как Амстердамская алмазная биржа[513]. Это вообще особенность одесской писательской школы. Потрясающий стилист и Катаев, хороши и Ильф-Петров, о Бабеле и говорить нечего. Впрочем, так насыщенно, как Бабель и Олеша, можно писать, наверное, если пишешь немного.
Куприн – человек солнечный, жизнелюбивый, энергичный, чем сродни жителям юга. Но метафоричность стиля – это не про него. У Куприна и без этого впечатляющие произведения.
По несправедливому стечению обстоятельств он часто воспринимается как беллетрист, в смысле – более-менее профессиональный бытописатель, без философской системы и широкого обобщающего взгляда. На самом же деле Лев Толстой не случайно «из всех младших современников… по-настоящему любил одного Куприна»[514]. Куприн, конечно, не продолжал толстовские сложные философские построения, не развивал его идеологию, а демонстрировал своими произведениями простую – а потому главную – линию Толстого. Она высказана ещё главным героем повести «Казаки» Олениным: «Кто счастлив, тот и прав!»
Если Олеша придумывает метафоры, боясь, что не сможет завлечь читателя интересным сюжетом, если он пьёт от безысходности, то у Куприна всё наоборот. Он пишет занимательно, увлекает читателя так, что тот уже не обращает внимание на стиль, и пьёт Куприн от избытка счастья, от ощущения собственной силы, яркости, живости и богатства окружающего мира. Можно сказать, у него был профессиональный интерес к жизни: он был предтечей Михаила Кольцова, три дня проработавшего в московском такси, или даже Израиля Петровича (Ильи) Штемлера, работавшего и в такси, и в универмаге, чтобы потом писать «производственные» романы, поражавшие читателя «застойных лет» обилием профессиональных терминов и деталей.
Куприн имел не только последователей, но и по крайней мере одного предшественника, так же как он жадного до жизни. Это Пётр Первый. Он – как и Куприн два века спустя – осваивал все ремесла и профессии, до которых мог дотянуться. Впрочем, стоматологические эксперименты давались Куприну тяжелее: он не мог, тренируясь, удалять зубы «в приказном порядке». С другой стороны, Пётр – при всех своих имперских полномочиях – не имел возможности опускаться в водолазном снаряжении на морское дно или летать на первых аэропланах, что делал Куприн как раз в Одессе. Для дотошных экскурсантов: под воду он опускался в Хлебной гавани (в полукилометре от дома на Маразлиевской, если по прямой), а летал вместе с лётчиком и борцом Иваном Михайловичем Заикиным[515] – полёт закончился аварией, но оба отделались ушибами.
Начались эти изучения различных профессий по достаточно прозаичной причине. Отец Куприна – Иван Иванович – умер в 1871-м году, когда будущему писателю исполнился год. Мать переехала с ним в Москву. С шести лет Куприн на «казённом довольствии»:
1876–1880 – Московский Разумовский пансион.
1880–1887 – Второй Московский кадетский корпус.
1887–1890 – Александровское военное училище.
1890–1894 – подпоручик 46-го – Днепровского – полка.
В 24 года Куприн выходит в отставку, не имея ни гражданской профессии, ни опыта гражданской жизни вообще. Конечно, у него богатый опыт и материал по жизни армейской, что в сочетании с писательским талантом позволяет выдавать «на гора» рассказы, повести и даже (уже в парижской эмиграции) роман «Юнкера» – и всё из армейской жизни. Но кипучий интерес к жизни и естественное желание расширить тематику произведений заставили Куприна осваивать разные специальности, вникать в жизнь представителей многих профессий. При этом восхищение профессионализмом так переполняет писателя, что это чувствуется даже в образе проститутки Тамары из повести «Яма», даже в образе Бек-Агамалова из «Поединка».
Вообще, с «Поединка» началась всероссийская известность Куприна. Он, конечно, главного героя – Ромашова – писал с себя, но отсёк свою злопамятность, внезапные приступы бешенства, болезненное самолюбие, которые склонен был объяснять наличием татарской крови: его мать Любовь Андреевна Кулунчакова – из рода татарских князей[516].
Одесситы обожают Куприна за рассказ «Гамбринус». Он в числе тех примеров, которые мог бы привести Юрий Михайлович Лотман, говоря, что искусство не описывает, а создаёт жизнь. Лотман ограничился «тургеневскими барышнями» (их, по его мнению, не было до Тургенева) да Рахметовым (после его появления в «Что делать?» началось массовое испытание себя на гвоздях[517]). Одесский «Гамбринус» был культовой точкой экскурсий по Дерибасовской. Он продолжал действовать, когда – в рамках очередной антиалкогольной кампании – закрывали все другие пивные. Было совершенно неважно, что в купринском «Гамбринусе» – на Преображенской около Дерибасовской – давно пункт приёма стеклотары, а второй – в переулке вице-адмирала Жукова угол той же Дерибасовской – присвоил «бренд».
А ещё Куприн видел Ленина. Причём отношение к «вождю мирового пролетариата» у него было вполне коммунистическое[518].
Куприн пришёл к Ленину с предложением издавать газету «Земля» (он вообще сочувствовал эсерам). Он описал глаза Ленина как глаза лемура в парижском зоопарке – золото-красные. Куприн увидел в Ленине «помесь Калигулы и Аракчеева» и написал эмоционально и хлёстко:
«Красные газетчики делают изредка попытки создать из Ленина нечто вроде отца народа, доброго, лысого, милого, своего «Ильича»… Никого лысый Ильич не любит и ни в чьей дружбе не нуждается. По заданию ему нужна – через ненависть, убийство и разрушение – власть пролетариата. Но ему решительно всё равно: сколько миллионов этих товарищей-пролетариев погибнет в кровавом месиве. Если даже в конце концов половина пролетариата погибнет, разбив свои головы о великую скалу, по которой в течение сотен веков миллиарды людей так тяжко подымались вверх, а другая половина попадёт в новое неслыханное рабство, – он – эта помесь Калигулы и Аракчеева – спокойно оботрет хирургический нож о фартук и скажет:
– Диагноз был поставлен верно, операция произведена блестяще, но вскрытие показало, что она была преждевременна. Подождём ещё лет триста…»[519]
После такого впечатления от «Ильича» эмиграция была неизбежна. Не помогла и работа в Издательстве «Всемирная литература», основанном Максимом Горьким. Впрочем, и сам Горький фактически эмигрировал на Капри и – припомним снова Ильфа и Петрова – «признал советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции». Куприн, возможно, советскую власть и не признал вовсе. Вернулся он из Парижа в мае 1937-го[520] смертельно больным, не возразил, когда от его имени журналист Николай Константинович Вержбицкий опубликовал хвалебную статью «Москва родная», но сам написал для статьи только фразу «Даже цветы на родине пахнут по-другому». Радовался возвращённому дому с садом в Гатчине, ездил в цирк и на скачки и умер от рака пищевода через 15 месяцев после возвращения.
Завещанием Куприна нам может служить рассказ «Слон», хоть написан он в 1907-м году. Его читают почему-то детям. Они фиксируются на мелочах. Так мы, выросшие в старом доме с деревянными балками перекрытий, больше думали о том, как пол не провалился, когда к девочке, чахнущей от невероятной апатии, приводят слона, чтобы эту девочку как-то вернуть к жизни[521]. Идея же в другом. И эта идея тождественна гриновским «Алым парусам». Получается, что они литературные братья не только по умению приковать читателя к напряжённому сюжету, но и по главной идее: человек может зачахнуть без чуда – но другой человек, любящий его, в силах сотворить это чудо и спасти любимого. И так считал не только неисправимый романтик Грин, но и неисправимый реалист Куприн.
- Глава 6 Путь к кино
- Глава 7 «Неистовый» Корней
- Глава 8 Бялик на улице Бялика
- Глава 9 Бремя больших ожиданий
- Глава 10 Улица литераторов – часть 1
- Глава 11 Литературный покер: две двойки
- Глава 12 Улица литераторов – часть 2
- Глава 13 Выглядывающий из вечности и неисправимый жизнелюб
- Глава 14 Абрамович и Рабинович
- Глава 15 Свобода – точка отсчёта




