Книга: По следам литераторов. Кое-что за Одессу
Глава 8 Бялик на улице Бялика
Глава 8
Бялик на улице Бялика
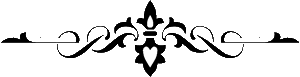
Теперь мы идём к дому, где жил Хаим Нахман Ицхок-Йосефович (в русской версии – Хаим Иосифович) Бялик. Те, кто знает, о ком пойдёт речь, могут упрекнуть нас в непоследовательности: ведь мы не решились рассказать о Пушкине в Одессе, хотя несколько раз и упоминаем его – а для ивритской поэзии и культуры Израиля в целом Бялик значит не меньше, чем Александр Сергеевич для культуры русской. Надеемся, читатели не обвинят нас в кощунстве[242], если мы заметим, что его роль может быть и больше пушкинской. Пушкин создал современный литературный русский язык на основе живого языка, описывающего различные стороны жизни – Бялик использовал язык, на котором две тысячи лет говорили только с Б-гом и о Б-ге[243]. Благодаря поэзии и переводам Бялика иврит стал описывать современный мир во всём его многообразии. Для возрождённого иврита хрестоматийная фраза Маяковского «у народа, у языкотворца» не работает. Можно назвать буквально несколько человек, вновь сделавших этот язык живым и современным. И Хаим Нахман Бялик – среди них.
Как и в честь Пушкина, в честь него назван город. Практически нет в Израиле города, где не было бы улицы Бялика (и улицы Жаботинского – с гордостью добавим мы). Когда в марте 1924-го года Бялик окончательно переехал в Палестину, для постройки дома ему выделили участок в Тель-Авиве на недавно проложенной улице – и тут же её назвали его именем. Участок находился рядом с главной артерией тогдашнего города – улицей Алленби[244]. По более строгой версии Дизенгоф дал торжественный приём в мэрии Тель-Авива сразу по прибытии Бялика и пообещал в ближайшее время назвать улицу его именем, что и сделал; тоже круто. Колонны, украшавшие дом, были не дорического, коринфского или ионического ордера; их капители выполнены в стиле колонн, украшавших Храм в Иерусалиме. Нужно быть очень трезвомыслящим человеком, чтобы «не свихнуться» от всего этого.
Но в Одессе всё скромнее. Улицы Бялика нет. Улице, названной в честь его его свояка – начальника Политуправления РККА Яна Борисовича Гамарника – вернули название «Семинарская»[245]. На доме № 9 по Малой Арнаутской улице, где жил Бялик, весьма небольшая мемориальная доска. В этом доме – так уж вышло – жил Дмитрий Ильич Ульянов; доска, посвящённая ему, была намного больше. Её, впрочем, давно убрали.
К дому № 9 мы идём по Гимназической до её пересечения с Малой Арнаутской, затем по самой Малой Арнаутской. В N-й раз повторим, как удобно, когда улицы располагаются чёткой прямоугольной сеткой. По дороге можем чуть приостановиться, чтобы посмотреть новый семиэтажный дом по диагонали от 5-й гимназии. С точки зрения теплотехнического аудита такие резко выделяющиеся повышенной этажностью дома энергетически невыгодны, но многие из «новостроев» явно украшают город. Здание по Гимназической, № 21 – из их числа; неназойливо воспроизведён модерн начала XX века. Для педантичных экскурсантов, любящих задавать вопросы в конце экскурсии (в стиле раздела FAQ на англоязычных сайтах), укажем архитектора – это, если верить сайту «Южная столица[246]», М. Рейнгерц[247]. С другой стороны, единственный найденный нами в Интернете связанный с Одессой архитектор Рейнгерц – Маврикий Германович[248] – относится к давней эпохе (в частности, значится как архитектор здания еврейского ремесленного училища общества «Труд»[249], что отмечено ниже – в главе 12). Вот уж, поистине – в Интернете опять кто-то неправ!
Конечно, нам нравится сплошная европейская застройка одесского центра. Но попробуем рассуждать объективно. При наличии ресурсов, желания и профессионализма можно провести правильную санацию кварталов: малоценные здания снести, построить на их месте дома с большей этажностью (в центре хватает зданий достаточной высоты), а освободившееся благодаря этому пространство отдать маленьким скверикам, детским и спортивным площадкам, даже парковкам. Но сочетание денег и профессионализма в градостроительстве – недостижимая мечта. В результате среди двух– и трёхэтажных домов в историческом центре появляются монстры типа башни «Чкалов» на Большой Арнаутской (бывшей улице Чкалова). Не спорим: она, как и большинство подобных домов, вполне симпатична сама по себе, но пока непривычна. Остаётся надеяться на поговорку «стерпится – слюбится». Верхние этажи башни, кстати, видны и с Малой Арнаутской, приведшей нас к дому Бялика.
О существовании Малой Арнаутской улицы знают все читатели «Двенадцати стульев» благодаря хрестоматийной сейчас фразе Остапа Бендера: «Всю контрабанду делают в Одессе на Малой Арнаутской улице». Интернет даёт строгое определение: «Арнауты – субэтническая группа албанцев, выделившаяся из собственно албанского этноса между 1300–1600 годами в ходе так называемых балканских миграций, вызванных нашествиями крестоносцев, ослаблением Византийской империи и вторжением турок»[250]. Но в Одессе арнаутами называли всех албанцев.
Всё же начнём разговор о Бялике (мы всё откладываем его, благоговея перед масштабом этой личности). Придётся опираться на авторитеты, поэтому в нашем рассказе о нём будет очень много цитат.
Начнём с конца. В некрологе Бялику Владислав Фелицианович Ходасевич писал: «Еврейская поэзия, начавшая бытие своё с Книги Бытия, не пресеклась и в рассеянии… Вдохновляемые идеей культурного и политического возрождения, новые поэты, как бы впервые, сознали право своё не только говорить о национальном несчастии, но и вообще взглянуть на мир собственными глазами. Слова о жизни, о Боге, о любви, о природе впервые обрели право гражданства в еврейской поэзии. Еврейская муза была как бы выведена из её тематического гетто, в котором она была обречена однообразию и провинциальности. Таким образом, преобразованное национальное сознание вывело еврейскую поэзию на простор поэзии всеобщей. Этим глубоким изменением своей жизни она всего более обязана Бялику»[251] Кстати, в том же некрологе Ходасевич привёл одно из стихотворений Бялика в переводе Жаботинского – обязательно прочтите!
Бялик скончался 1934–07–04 в Вене в 61 год; проведенная операция была плановой, казалась несложной, а Вена была одним из передовых в медицинском отношении городов – поэтому смерть стала неожиданной. Как мы уже писали, в 1933-м году Бялик выдвинут на Нобелевскую премию, но присудили её Бунину[252]. В 1934-м его тоже номинировали на Нобелевскую премию, но посмертно этими премиями (в отличие от Ленинских, о чём мы уже знаем на примере Довженко и Шукшина) не удостаивают.
Мы уже говорили, как влияют переводы на популярность литератора: Шекспир в гениальных переводах популярнее у русскоязычного читателя, чем на родном у англоязычного – для него язык Шекспира всё же устарел[253]. В восприятии же поэзии Бялика на языке оригинала есть проблемы, отмеченные знатоком его творчества Зоей Леонтьевной Копельман в послесловии к сборнику стихов и поэм, вышедшему в Иерусалиме в 1994-м году[254]: «Другая[255] преграда между поэзией Бялика и читателями возникла ещё при жизни поэта: подавляющее число его стихов написано на ашкеназском варианте иврита, а возрождённый Израиль заговорил на сефардском наречии, отличающемся главным образом местом ударения в слове. Если чётко организованные в ритмическом отношении стихи Бялика прочесть по законам сефардского наречия, они превращаются в неуклюжий, полупрозаический текст. Сам поэт знал о гибельной ловушке, уготованной ему ивритом-ашкеназитом, и начинающим поэтам настоятельно советовал выбирать только так называемый «правильный» иврит. Всё это привело к ситуации, когда Бялика учат в школе, но почти не читают дома»[256]. Так что мы – кто знакомится с поэзией Бялика по переводам Валерия Яковлевича Брюсова, Фёдора Сологуба (Фёдора Кузьмича Тетерникова) и, главным образом, Владимира Евгеньевича Жаботинского – находимся в преимущественном положении.
Переводы Жаботинского, конечно, лучшие. Во-первых, он переводил с иврита напрямую, а не с использованием подстрочника и фонетических схем. Во-вторых, он сам был грандиозный писатель, друг Бялика и близкий по убеждениям человек (по крайней мере до 17-го Сионистского конгресса, то есть до 1931-го года).
Примерный механизм перевода с незнакомого языка и впечатление от поэзии Бялика описал Ходасевич в уже процитированном некрологе (хотя сам перевёл только одно стихотворение: «не потому, что мало ценил его, а наоборот, потому что ценил очень высоко и был вынужден его уступать другим»): «Не зная древнееврейского языка, я, подобно другим, был знаком с Бяликом по переводам. Однако позволю себе сказать, что моё знакомство с ним было несколько более близким, нежели у людей, поставленных в такие же условия. Дело в том, что, помимо готовых стихотворных переводов из Бялика, мне посчастливилось видеть много прозаических, сделанных подстрочно, слово за словом, даже с соблюдением грамматических конструкций, русскому языку совершенно чуждых. Мало того: переводы эти сопровождались русской транскрипцией подлинников, и таким образом я, следя одновременно за подстрочником и транскрипцией, получал возможность не только следить за строем поэтической речи Бялика, но и проникнуть в её звуковой состав. Грубый, двойной покров, сквозь который мне приходилось прощупывать черты подлинника, в действительности оказывался гораздо тоньше, чем покров стихотворных переводов, даже столь образцовых, как сделанные Жаботинским и Вяч. Ивановым. Я читал Бялика почти в подлиннике… При таком чтении я мог не только оценить силу, выразительность, меткость языка у Бялика (это – свойство всех больших поэтов), но и проникнуть хотя бы несколько более глубоко в тот дух поэзии, в ту её иррациональную сферу, где таятся её главные индивидуальные черты, всегда познаваемые только из подлинника». И далее: «Совершенно особенное, как ни у одного из известных мне поэтов, восприятие времени – вот, на мой взгляд, самая своеобразная черта в Бялике-поэте. Восприятие необыкновенно чувственное, конкретное и, в то же время, как бы ежесекундно преодолеваемое. Прошедшее и будущее у Бялика обращены друг на друга, подобно двум зеркалам. Перспектива будущего образуется из перспективы в нём отражённого прошлого – и наоборот: перспектива прошлого уже заключает в себе перспективу будущего. Вместе с тем для каждого отдельного отражения, в правой или левой перспективе может быть определено его порядковое место, по отношению ко всем предшествующим и последующим. … наглядной иллюстрацией здесь может служить поэма «Мертвецы пустыни». … Аллегорический смысл поэмы очевиден: в ней дано прославление вечно живущей стихии еврейства, в каждый миг повергаемого и восстающего, умирающего и воскресающего. Но надо было обладать особенным, бяликовским, ощущением времени, чтобы эту отвлечённо-аллегорическую картину превратить в конкретно-символическую, придать ей совершенную убедительность и реальность».
Нам очень трудно прервать цитирование статьи Ходасевич. Она написана высоким стилем, просто не выживающим в нынешнем суетливом мире, где большая часть информации подаётся краткими фразами в стиле сообщений твитера. Конечно, повторим вслед за Чеховым: «Краткость – сестра таланта» – но всё же не мать и не отец его.
Благодаря выдающимся переводчикам Бялик стал практически единственным ивритским поэтом, с чьим творчеством была до революции знакома русскоязычная читающая публика. Зато и уважение к нему было безграничным. В 1916-м, когда отмечалось 25-летие творческой деятельности Бялика, среди поздравительных телеграмм было стихотворение, посвящённое ему Буниным (оно – забавная ошибка литературоведов – в течение многих лет считалось бунинским переводом из Бялика). Приводим полный текст:
Да исполнятся сроки
Бялику X. Н.
От литературоведческих цитат обратимся к фактам биографии Хаима Иосифовича. Главная её особенность – он родился вовремя. Это, конечно, можно сказать о любом значительном деятеле в технической либо политической сфере. Очевидно, что Билл Гейтс не смог бы разрабатывать программное обеспечение для компьютеров, живи он в XIX веке, а Владимир Ильич Ульянов не основал бы государство рабочих и крестьян (официальная версия), проживи он всю жизнь в средневековой Испании. С литераторами, вроде, не так очевидно. Тем не менее, появление национального поэта – а таким, безусловно, был Хаим Нахман Бялик – возможно в момент формирования самой нации. Как сказано академическим языком: «Бялик принадлежит к тем немногочисленным избранникам в каждой национальной литературе, которые знаменуют переломную эпоху, и вместе с тем олицетворяет в себе жизненную силу первоисточников, живую историческую память. Он – единственный поэт 20 в., чьи произведения сформировали духовный облик целого поколения еврейства в России, Восточной Европе и Израиле»[257]
Итак, краткая биография. Родился 1873–01–21 (по юлианскому календарю – 1873–01–09) в семье лесника. Когда будущему поэту исполняется семь лет, отец умирает[258]. Яркие детские впечатления жизни на природе, её красоты отражаются в стихотворениях на протяжении всей жизни. После смерти отца Хаим Нахман десять лет живёт у деда, где читает запоем – главным образом религиозную и кабалистическую литературу. С 13 лет – еврейское совершеннолетие – изучает священные книги в специально предназначенном месте – бет-мидраше[259]. Продолжает образование в Волошинской иешиве. Это было удивительно – хасид в литовской иешиве[260]. Он выдержал шестичасовой экзамен двух суровых раввинов и был принят. К его разочарованию, в этом высшем религиозном заведении общие предметы не преподавали. Бялик продолжил самообразование, чему очень помогала просто-таки фотографическая память.
Первой прочитанной им книгой на русском языке были стихи Семёна Григорьевича Фруга – русско-еврейского поэта. Как удачно, что тот жил в Одессе, так что мы о нём расскажем в рамках нашей экскурсии чуть позже.
Публицистический дебют Хаима Бялика – статья 1891-го года «Идея колонизации» в газете «Ха-мелиц», издававшейся в Санкт-Петербурге – не очень замечен: молодой автор по обрывочным сведениям, доходившим в Волошинскую иешиву (её руководство не поощряло чтение газет и вообще нерелигиозной литературы), пытался синтезировать несколько идей, связанных с путями возрождения еврейского национального духа. Бялик попал в положение Остапа Бендера на Черноморской кинофабрике, где, как известно, «немого кино уже не было, а звукового ещё не было». Политического сионизма, связанного с упоминавшимся Теодором Герцлем, ещё не было, а практическая колонизация Палестины на деньги барона Ротшильда и движения Ховевей Цион (см. гл. 5) шла в это время менее активно, чем несколькими годами ранее.
К счастью, у Бялика были уже законченные поэтические произведения, а учёба в иешиве сделала его более самостоятельным и менее замкнутым. В 1892-м году, выдумав болезнь деда, он уезжает из Волошина в Одессу – она наряду с Варшавой была центром еврейской литературы Российской империи. Писатель и журналист Иехошуа Хоне Равницкий уже подготовил литературный сборник, но соглашается прочитать стихотворение Бялика – вероятно, чтобы не обидеть молодого и явно бедного юношу. Стихотворение «К ласточке», несмотря на некоторую наивность, так трогает составителя сборника, что Равницкий исключает из него свой материал, чтобы состоялся поэтический дебют Бялика. С этого благородного поступка начинается плодотворное издательское сотрудничество Равницкого и Бялика, продолжавшееся до смерти поэта.
Бялик проводит в Одессе год, живёт в бедности[261], подрабатывает уроками иврита (их обеспечивают ему в качестве поддержки еврейские литераторы Одессы), изучает немецкий. Потом он переведёт на иврит Шиллера, а при переводе на иврит «Дон Кихота» будет использовать переводы романа Сервантеса на русский и немецкий языки – интересный подход.
Узнав, что дед при смерти, он вынужден вернуться в Житомир. Семь лет вне нашего города наполнены множеством событий: смерть деда, женитьба, участие в «бизнесе» тестя – торговле лесом (одна из попыток избежать нужды, так мучившей ранее), преподавание в польском местечке Сосновицы. Но при этом Бялик продолжает заниматься литературой и возвращается в Одессу уже зрелым поэтом. Если в 1892-м он никому не известен и появляется здесь без всяких связей, то в 1900-м переселяется в Одессу по приглашению виднейших деятелей еврейской культуры.
В Одессе Бялик не только продолжает преподавать, но в содружестве с Равницким создаёт издательство «Мория». В силу ограниченного спроса на литературу на иврите в целом главный упор делается на учебную литературу. Тем не менее издаются также сборники ивритской поэзии XII–XVIII веков (занятный плюс законсервировавшегося или «мёртвого» языка), а также сборник еврейских сказаний «Агада», впервые вышедший в 1908–1909-м годах, но с тех пор переиздаваемый постоянно, вплоть до наших дней – уже, конечно, в Израиле. Последнее – убедительное свидетельство добросовестной и высококачественной работы составителей и комментаторов – Бялика и Равницкого, живших, кстати, в одном доме.
В отличие от уже упоминавшегося в связи со строительством «Шахского дворца» правила «мы можем работать быстро, качественно, недорого; вы можете выбрать две опции из трёх» у Бялика было одно правило: мы работаем максимально качественно. В результате прибыль издательства была минимальной, зато каждая книга тщательно отредактирована и прекрасно оформлена. Требование к чёткости шрифта представляется очень обоснованным, ведь некоторые буквы – в отличие от латинского шрифта – кажутся почти не различимыми по написанию (особенно нам, увы, не читающим на иврите)[262].
Забегая вперёд, отметим, что опыт издания прекрасно оформленных книг пригодился в Берлине в 1923-м году. Расскажем об этом подробнее позже, сохраняя пока интригу.
Квартира Бялика в доме, около которого мы сейчас стоим – место встреч пишущей еврейской молодёжи, ищущей совета и помощи поэта, находящегося в зените славы. В 1907-м году Бялик написал статью «Наша молодая поэзия», где похвалил многих начинающих авторов, хотя они писали в манере, новой по отношению к манере самого Бялика – прекрасная щедрость по-настоящему великого человека. При этом Бялик был очень строгим – почти беспощадным – редактором, а многие произведения и вовсе не принимал в журнал, чей литературный раздел редактировал. В результате журнал потерял многих молодых литераторов: они предпочли более снисходительное отношение других изданий и альманахов[263].
При этом дом Бяликов оставался гостеприимным и открытым. Возможно, гости даже в какой-то мере заменяли хозяевам отсутствующих детей. Но куда важнее, что они были благодарной аудиторией. Поэт любил поговорить, мог «загореться» по любому поводу и начать рассуждения, восхищавшие слушателей: и широтой знаний, и богатством воображения, и сочной речью на украинском диалекте идиша, с ивритскими, арамейскими и русскими оборотами и поговорками. Как позже написал в письме знакомым философ и литературовед Михаил Осипович Гершензон: «много я видел замечательных людей, но такого большого, как Бялик, ещё не было за нашим столом… Он так удивительно глубокомысленно умён, и в своём мышлении так существен, конкретен, что, по сравнению с ним, наше мышление как-то беспочвенно и воздушно. И потому же, конечно, он с виду, по манерам, прост совершенно, точно приказчик. Говорит самым простым тоном, и когда вслушиваешься, то слышишь нарастающую стальную крепость мысли, отчетливость и поэтичность русских слов, а в узеньких глазах – острый ум… По сравнению с ним, и Вяч. Иванов, и Сологуб, и А. Белый – дети, легкомысленно играющие в жизнь, в поэзию, в мышление»[264]. А ведь Гершензон на своём веку (точнее, на полувеку: он прожил 55 лет) встречался, общался и работал с очень многими замечательными мыслителями: в частности, именно он – организатор (и автор вступительного слова) сборника «Вехи», где опубликовались Николай Александрович Бердяев, Сергей Николаевич Булгаков, Семён Людвигович Франк. Так что эти слова Гершензона «дорогого стоят».
Слова «прост совершенно, точно приказчик» полностью отражают впечатление от фотографий Бялика – особенно в зрелом возрасте. Впрочем, при всём несходстве характеров и судеб, то же можно сказать и о В. И. Ленине. Никто – ни друзья, ни враги – не отрицал его гениальный ум. Но даже выдающийся мастер фотопортрета Моисей Соломонович Наппельбаум говорил, что не мог уловить ничего, что говорило бы об его величии[265].
В 1903-м году – после, увы, очередного еврейского погрома, на этот раз в Кишинёве – Бялик по, так сказать, поручению общественности едет на место драматических событий. Задача – художественно воплотить их и продажей литературного произведения обеспечить материальную помощь пострадавшим. После увиденного Бялик молчит полгода. Но потом на свет появляется «В городе резни» (в переводе Жаботинского – «Сказание о погроме»).
Вещь и сейчас невозможно читать без содрогания (то же можно сказать и о главе «Почин» романа Бориса Житкова «Виктор Вавич», описывающей еврейский погром 1905-го года). Казалось бы, после Холокоста, когда уничтожение евреев превратилось в индустриальную задачу[266], локальный погром, случившийся свыше ста лет назад, уже не может потрясать. Но Бялик с необычайной силой описал события, причём не побоялся гневно осудить безволие народа, отдавшего себя на растерзание. Впервые погром и сопровождавшее его насилие показаны с точки зрения пострадавших женщин; это тоже было необычно.
«Сказание о погроме» вдохновило одесситов на организацию отрядов самообороны. Это имело как прикладное значение – уменьшение числа жертв в ходе последующих погромов в Одессе[267], так и общественно-политическое. Друг Бялика Жаботинский становится одним из организаторов этих отрядов и так от литературы постепенно переходит к политической деятельности. Но об этом подробнее на Еврейской, № 1 – у дома самого Жаботинского.
Строго говоря, обличения собственного народа в этой поэме – продолжение цикла «Песни гнева», начатого Бяликом ещё в Сосновицах. В духе, ни больше ни меньше, библейских пророков (и тем же библейским размером с тонко уловимым ритмом)[268] Бялик выступал против косности народа и отсутствия стремления к обновлению. Зная современное еврейское общество в Израиле и по всему миру, в это сложно поверить. Но – доверимся еврейскому национальному поэту – так оно скорее всего и было в Российской империи конца XIX века[269].
В 1905-м году Бялик пишет ещё одну поэму «Свиток о Пламени». Несмотря на весь авторитет поэта, эту поэму не приняли, посчитали претенциозной, «модернистской», сочли неудачной по композиции и вообще невнятной по замыслу. При этом желание всё же разгадать замысел Бялика было так велико, что появилось три варианта перевода поэмы на русский язык. Но и это не помогло постичь поэму.
С этого времени Бялик пишет всё меньше стихов. В 1916-м году отмечается 25-летие творческой деятельности поэта, но все задаются вопросом о причине его молчания. Мы, однако, не будем углубляться в литературоведческие и психологические тонкости. Просто продолжим рассказ о жизни Бялика.
Ещё до Остапа Бендера[270] у Бялика возникли разногласия с Евсекцией – Еврейской секцией РКП(б). Внешне – чисто языковые. Евсекция признавала в качестве «правильного» еврейского языка идиш: он начался как диалект немецкого, но вырос в самостоятельный язык – в то время на нём разговаривало 11 миллионов человек. Сам Бялик, как мы отмечали, говорил на нём, но, в отличие от своих современников – «дедушки еврейской литературы» одессита Менделе Мойхер-Сфорима и Шолом-Алейхема – и будущего Нобелевского лауреата 1978 года-го Исаака Башевис-Зингера (Ицхока Пинхус-Менделевича Зингера), творил на иврите. Он, правда, переводил Мойхер-Сфорима и Шолом-Алейхема на иврит, чем в глазах большевиков только усугублял свою вину. Евсекция и РКП(б) в целом рассматривала иврит как язык реакционный, связанный с иудаизмом и сионизмом – эта связь, признаем, действительно была и по сей день сохраняется. В революционном рвении большевики запрещают его постановлением Наркомпроса в 1919-м году, книги не только не издаются, но и изымаются из библиотек. Московский Театр на иврите «Габима»[271] («Сцена») после триумфальных гастролей по Европе «оседает» в Палестине, а Бялик – с несколькими чемоданами шрифта – в Берлине.
35 видных еврейских семей выехали из Одессы в 1921-м году по личному письменному распоряжению Ленина, полученному благодаря заступничеству Максима Горького. Горький в то время хлопотал о многих, но, думаем, о Бялике – с особым энтузиазмом. Ведь он писал о Бялике так: «Для меня Бялик – великий поэт, редкое и совершенное воплощение духа своего народа, он – точно Исаия, пророк наиболее любимый мною, и точно богоборец Иов. Как все русские, я плохо знаю литературу евреев, но поскольку я знаю её, мне кажется, что народ Израиля еще не имел, – по крайней мере на протяжении XIX века, – не создавал поэта такой мощности и красоты. На русском языке стихи Бялика вероятно теряют половину своей силы, образности, но и то, что дают переводы, позволяет чувствовать красоту гневной поэзии Бялика»[272]. На выезде этих семей опробован приём «мягкого» избавления от инакомыслящих, повторённый в 1922-м году высылкой 160 философов и мыслителей (так называемый «философский пароход», хотя фактически судов и рейсов было два). На эту тему афористично высказался Троцкий: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно»[273].
Бялик поехал в Берлин, а не в Палестину, хотя в ходе трёхмесячного визита туда в 1909-м году смог лично убедиться в необычайной популярности своей поэзии: песни на его стихи распевали евреи-пионеры, осваивающие Эрец Исраэль – Землю Израиля. Правда, тогда же ему – преподавателю Одесской иешивы – отказали в должности учителя в Тель-Авиве как не имеющему высшего образования. Либо бюрократия Османской империи была больше, чем Российской, либо реальная причина отказа – политические соображения.
Смысл берлинской остановки деловой и прозаический. Нужно решить задачу возобновления издательской деятельности на иврите. Обстановка самая благоприятная: много еврейских беженцев из Советской России, считающих именно иврит языком своей национальной культуры, невероятно дешёвая – вследствие послевоенной гиперинфляции – немецкая марка (вспомним описывающий это время роман Ремарка «Чёрный обелиск»). Бялик возобновляет работу «Мории», основывает второе издательство «Двир», скупает книги прочих издательств. Задача – обеспечить книгами на иврите растущее еврейское население Палестины. Параллельно совместно с женой издателя Зейдмана он создаёт несколько иллюстрированных книг детских стихов и сказок – первое, что учат дети в современном Израиле. Это ещё одна параллель с Пушкиным: благодаря сказкам Пушкин и Бялик – первые литературные имена для нас и для детей Израиля соответственно.
Гордясь своими деловыми успехами, Бялик пишет знаменитому историку и своему другу Семёну Марковичу Дубнову[274] «Не прошло и года, как в моём распоряжении оказался наполненный книгами склад, и хотя книги эти только поступают в руки распространителей, я почти выплатил все ссуды, взятые для их издания. Я начал без единой собственной копейки – и вот какие замечательные итоги!»[275]
Но впереди совершенно феерический бизнес-проект – роскошное издание полного собрания сочинений Хаима Нахмана Бялика по случаю его пятидесятилетия. Работа над изданием продолжается год, в результате чего появляется четырёхтомник тиражом 3200 экземпляров, из них 200 – в сафьяновом переплёте с автографами автора и художника-иллюстратора на бумаге с водяными знаками «Х. Н. Бялик – 1873–1923».
Если помните эпизод из «Двенадцати стульев», когда Старгород «в три дня» охватывает продовольственный и товарный кризис, там сказано «Губернатор Дядьев заработал в один день десять тысяч. Сколько заработал председатель биржевого комитета Кислярский, не знала даже его жена». История донесла до нас, что Бялик заработал двадцать тысяч долларов (это, напомним, 1923-й год, когда унция золота стоила 35 долларов, так что по нынешней биржевой цене золота сумма примерно соответствует 800–900 тысячам долларов). «Поэт национального возрождения» мог ехать в Палестину и жить там в собственном доме на собственные деньги. Вряд ли Бялик ориентировался на американское выражение «если ты такой умный, покажи свои деньги», но жить за чужой счёт в родной стране не хотел.
В Палестину Бялик с женой прибыли поездом из Александрии 1924–03–26. Толпы народа встречали «самое драгоценное приобретение» еврейского населения Палестины. Из поезда его вынесли на руках…
Бялик начинает строить дом на улице Бялика (что мы уже рассказывали), возвращается в Берлин, чтобы закрыть издательство «Мория» и перевести издательство «Двир» в Тель-Авив. На еврейский праздник «Симхат-Тора»[276] осенью 1925-го года он устраивает грандиозное новоселье в достроенном доме. Бялик становится центром духовной жизни молодого Тель-Авива. С ним советуются во всём, просят улаживать конфликты, он причастен ко всему, что творится вокруг. Но финансовые дела издательства идут не очень хорошо, и Бялик отправляется в турне в СГА. Миссия проходит неудачно – у американских евреев были свои заботы, и проблемы сионистских колонистов представлялись им далёкими[277]. Но была и польза: в этой поездке и в поездках по Европе Бялик продолжает подвижническую деятельность по отысканию рукописей еврейских средневековых поэтов с целью переиздания их стихов.
Бялик – как член Комитета языка иврит – много занимался находящимся в самом разгаре процессом превращения «мёртвого» языка в «живой». Сам он был, по общему мнению, великим знатоком иврита как по объёму словаря, так и по ощущению оттенков значений. Богатство, точность и гибкость языка Бялика поражали читателей и простых жителей Тель-Авива. Поэтому у Бялика спрашивали, как называется то или иное животное, тот или иной цветок, какое имя на иврите дать ребёнку и что написать на вывеске магазинчика.
Благодаря такому глубокому знанию языка Бялик не считал нужным заниматься словотворчеством, как «отец современного иврита» Элиэзер Бен-Йехуда (Лейзер-Ицхок Перельман), и даже считал изобретённые Элиэзером слова химерическими образованиями. Бялик считал, что достаточно раскрыть все смыслы, которыми они обладали в древности, и нагрузить их новыми современными смыслами: «надо только обнажить, раскрыть сокровенное в тайниках». На наш взгляд, правы оказались оба – всё же без словотворчества невозможно описать всё то новое, что появилось в жизни за 2000 лет. Даже во вполне живых языках регулярно появляются новые слова – иной раз довольно прикольные (кстати, последнее слово – новое).
В Тель-Авиве Бялик занимался также проблемой перевода религиозного наследия, бесконечно ценимого им, в светскую культуру. Отказ от классического религиозного празднования субботы привёл к весьма недостойному поведению молодёжи в Тель-Авиве в этот день. Вместо бесцельного шатания по городу и беспричинных драк, с лёгкой руки Бялика начались культурные мероприятия, постепенно вовлекшие сотни людей. Успех дела, подкреплённый авторитетом и эрудицией Бялика (он сам часто выступал на этих «посиделках» – в основном экспромтом, но всегда блестяще), был таков, что в итоге для этих собраний построили специальное здание на тысячу человек. Хорошо жить в молодой стране: можно заложить замечательные традиции, дающие прекрасные плоды.
60-летие Бялика в 1933-м году прошло несравненно скромнее, чем 50-летие. В Германии к власти уже пришли нацисты; начинало сбываться пророчество Бялика, ещё в 1929-м году прогнозировавшего большие проблемы европейского еврейства и призывавшего к отъезду. Так же точно он предсказал гибель идиша – свидетельство чему, в частности, то, что Исаака Башевис-Зингера сейчас переводят на русский не с идиша, а с английских переводов. Страшно признаться, но это сдвоенное пророчество: после гибели 6 миллионов[278] или, наверное, 90 % носителей языка, его вымирание стало вопросом недалёкого – в историческом масштабе – будущего.
К 60-летию Бялика муниципалитет Тель-Авива учредил премию его имени[279]. К юбилею начало выходить очередное собрание его сочинений.
В середине 1934-го года поэт с женой выезжают в Вену на операцию: камни в почках всё больше мучают, а консервативное лечение уже не помогает. Из поездки Бялик не вернулся…
Завершить наш рассказ хотим очередной цитатой, на этот раз из предисловия Владимира Жаботинского к сборнику Бялика – тому самому, что состоял в основном из переводов, выполненных самим Жаботинским, и только за 1911-й год выдержал три издания: «Различие между Бяликом и его предшественниками на поприще новейшей еврейской поэзии (назовём из них отца и сына Лейбензонов, И.-Л. Гордона, К. Шапиро, Мане) можно свести к двум моментам. Во-первых, оно обусловливается самой эпохой, выдвинувшей новые, более сложные переживания, новые, бесконечно более глубокие проблемы и задачи. Во-вторых – разница в размере, диапазоне и, главным образом, зрелости таланта. Некоторые из предшественников, особенно И.-Л. Гордон, отличались крупным поэтическим дарованием; но им слишком много приходилось творить заново – и потому до Бялика новоеврейской поэзии во многих отношениях недоставало печати мастера. Проповедь страдала дидактичностью, иногда впадала в тон прозаической полемики, художественные образы редко оставляли впечатление законченной выдержанности, фабулы были наивны, пафос лишён чувства меры, и несмотря на значительное совершенство формы, не всегда чувствовалась в ней теплая гибкость живого языка. Бялик первый дал новоеврейской поэзии то, что немцы называют Meisterschaft, поднял и утвердил её на качественном уровне европейских литератур – и заговорил на языке пророков так, словно бы со времен Деборы до наших дней где-то в неведомой земле непрерывно жила и развивалась еврейская речь в устах матерей и малюток, борцов и мужей совета, горемык и влюблённых. Он создал школу, которая уже выдвинула два – три имени, достойных с честью занять вторые места рядом с именем учителя»[280].
Как мы упоминали, первая книга, прочитанная Хаимом Нахманом Бяликом на русском языке – книга стихотворений Семёна Григорьевича Фруга. Вы уже должны привыкнуть, что в Одессе всё плотно: дом, где Фруг провёл последние годы жизни – за углом от дома Бялика. Идём к самому началу Малой Арнаутской, поворачиваем направо и останавливаемся у красивого четырёхэтажного дома по Белинского, № 12 – мы на месте. Буквально пара минут ходу.
Как и в случае с Бяликом, начнём с конца. Семён Григорьевич Фруг умер в Одессе 1916–09–22. Из дома, где мы сейчас стоим, его несли на руках на 2-е еврейское кладбище. Похоронная процессия состояла из 100 тысяч человек: каждый 5-й житель города, включая «стариков, женщин и детей» (вряд ли к процессии подключились солдаты гарнизона Одессы: в связи с Мировой войной их было примерно 100 тысяч). Пришлось перекрывать движение городского транспорта Разве что похороны генерал-губернатора Воронцова в ноябре 1856-го проходили с таким участием населения города. Но в том случае хоронили генерал-фельдмаршала, князя, наместника на Кавказе, и проч, и проч., и проч. А Фруг был «всего лишь» поэт и публицист.
Кроме грандиозных похорон, у Михаила Семёновича Воронцова и Семёна Григорьевича Фруга была общей в известном смысле и посмертная судьба. Прах Воронцова чудом спасли из взорванного Преображенского собора, практически секретно захоронили на Слободском кладбище – подальше от центра и начальства – и торжественно перезахоронили во вновь отстроенном соборе уже в наше время[281]. У Фруга тоже всё было «в несколько стадий». Сначала мощное, почти кубическое надгробие из чёрного гранита во время оккупации Одессы вывезено в Румынию[282] Оттуда, правда, по решению румынской еврейской общины его переправили в Израиль, так что не вдающийся в детали посетитель мемориала, видя надгробие, может счесть, что Фруг похоронен в Тель-Авиве, как и Бялик. Детали обнаружения надгробия и его путь в Израиль можно изучить в статье «Два достоянья Семёна Фруга»[283]. Затем – при разрушении 2-го еврейского кладбища (в 1978-м году; акция не только варварская, но и бессмысленная, ибо так называемый «Артиллерийский парк», разбитый на его месте, никто не посещает) ряд ценных захоронений, включая захоронение Фруга, перенесли напротив – на 2-е Интернациональное кладбище (туда же перенесены захоронения расстрелянных белогвардейцами членов Иностранной коллегии[284]). На новой могиле (дурацкий, но точный термин) Фруга был установлен скромный памятник. Только к столетию со дня смерти – 2016–10–10 – ему открыт достойный монумент. Координатором проекта выступил уже упомянутый нами автор книги «Одесские песни с биографиями» почётный член Всемирного клуба одесситов Михаил Борисович Пойзнер. Спасибо, Михаил Борисович!
Вернёмся к интригующему и через сто лет после смерти вопросу: почему же проститься с Фругом пришла практически вся еврейская Одесса? Почему его смерть вызвала потрясение в еврейской среде России? Наверное, потому, что своими стихами и своей жизнью он отразил существенные надежды и черты жизни одесских евреев, да и евреев Российской империи в целом.
Человеческая память – очень сильный защитный механизм. Плохое забывается – и прошлое видится лучше, чем было на самом деле[285]. В перестроечные годы и лихие девяностые на этой основе появилось много публицистики и документального кино на тему «Россия, которую мы потеряли». Понятно, если бы «прекрасная, цветущая, феноменально быстро развивающаяся Россия» соответствовала красочным картинкам, старательно игнорирующим все неизбежные недостатки реальной жизни, вряд ли мы бы её потеряли так быстро: империя развалилась в три дня, и Николай II подписал отречение на станции Дно – символичнее не придумаешь. На примере жизни Семёна Григорьевича Фруга видно положение значительной части граждан страны: после такого сложно её называть только «прекрасной и цветущей».
Родился он в еврейской земледельческой колонии в Херсонской губернии (было и такое, что мы знаем на примере отца Троцкого). После еврейской начальной религиозной школы, обязательной для мальчиков (что обеспечивало высокий уровень грамотности еврейского населения), он в 13 лет поступает в русское училище. Поэтому и первая его подборка стихов, опубликованная в еврейском еженедельнике «Рассвет» в 1879-м году – на русском языке.
Спустя два года – первая попытка жить и работать по месту издания «Рассвета», то есть в Санкт-Петербурге. Проживание вне черты оседлости требовало значительных усилий по преодолению бюрократически-репрессивной машины, особенно усилившейся после успехов «товарищей по оружию» вышеупомянутого Халтурина, таки убивших императора Александра II. Его сын Александр III начал активно «замораживать» страну. В результате Фруг смог жить в столице по единственному основанию – в качестве «домашнего служителя» редактора «Рассвета» Марка Самойловича Варшавского. Вопрос вроде формальный – но решение унизительное.
В последующие годы к поэту приходит литературный успех. Он печатается как в еврейских, так и в ведущих российских изданиях («Вестник Европы», «Русское богатство», «Русская мысль»). В столице выходит несколько сборников его стихотворений; «Стихотворения» в 1885-м году, «Думы и песни» в 1887-м и «Стихотворения 1881–1889 гг.» в 1889-м. Его сравнивают с Надсоном и Апухтиным.
При этом материальное положение его остаётся плохим, а в 1891– году его и вовсе высылают из Санкт-Петербурга. Фруг жил в немецком посёлке Люстдорф («Весёлое село») под Одессой. Для возвращения в Петербург понадобились усилия Литературного фонда и поэта Константина Константиновича Случевского, имевшего придворный чин гофмейстера. Во второй петербургский период он продолжает регулярно писать стихи, но к этому прибавляется «подёнщина» в виде еженедельных фельетонов в «Петербургском листке» и «Петербургской газете».
В 1909-м Фруг переезжает в Одессу, где становится председателем Одесского отделения еврейского литературного общества, переводит на русский язык упомянутый нами сборник Бялика и Равницкого «Агада», но также вынужден зарабатывать на жизнь чтением своих стихов в поездках по городам и местечкам черты оседлости. Смерть в 55 лет – закономерный, увы, итог нужды, болезней и бед, сопровождавших Семёна Фруга всю жизнь. Но, конечно, не это объясняет столь уникальные похороны.
Поэт смог выразить прежде всего проблемы, мучившие его соплеменников: рост национального сознания на фоне «эпохи погромов» и чувство внутренней раздвоенности из-за неразрывности связи с Россией:
Сравните со стихотворением Бродского «Я входил вместо дикого зверя в клетку», написанным тоже в сорокалетнем возрасте. Похоже, не случайно мужчинам не советуют пышно праздновать 40-летие: что-то печально-переломное происходит с ними в этот юбилей.
Но главное – в его стихах на русском языке мощно звучали речи библейских судей и пророков Самуила, Исайи, Иеремии, Амоса. Бесправному и беспомощному еврейству «черты оседлости» как воздух нужны были эти напоминания о величественном мудром и героическом прошлом, что давало надежду на возрождение в будущем.
Эту мысль подытожил, естественно Бялик, чьими словами мы и завершим эту часть нашей экскурсии: «Читая Фруга даже на чуждом мне языке, я чувствовал в нём родную душу, душу еврея, я обонял запах Библии и пророков… Для меня Фруг писал не по-русски. Читая его русские стихи, я не замечал русского языка. Я чувствовал в каждом слове язык предков, язык Библии…»[288]
- Глава 6 Путь к кино
- Глава 7 «Неистовый» Корней
- Глава 8 Бялик на улице Бялика
- Глава 9 Бремя больших ожиданий
- Глава 10 Улица литераторов – часть 1
- Глава 11 Литературный покер: две двойки
- Глава 12 Улица литераторов – часть 2
- Глава 13 Выглядывающий из вечности и неисправимый жизнелюб
- Глава 14 Абрамович и Рабинович
- Глава 15 Свобода – точка отсчёта
- Глава XXII ВОРОНЦОВО ПОЛЕ Между улицей Воронцово поле и Серебрянической набережной реки Яузы
- Вдоль по улице Меса…
- Вдоль по улице Тарнок к *Музею аптечного дела
- Прогулка по *улице Ваци
- Покупки на улице Хамнгатан, прогулки в парке Кунгстредгорден
- Вечерняя прогулка по длинной-длинной улице
- По Карловой улице к Карлову мосту
- Жилые комплексы на Кемской улице
- Остоженка По улице в историю
- На улице
- «Там на углу, на Яновской, на улице Клепаровской»
- Если к вам подошли на улице с «выгодным предложением»




