Книга: По следам литераторов. Кое-что за Одессу
Глава 11 Литературный покер: две двойки
Глава 11
Литературный покер: две двойки
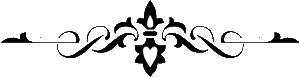
Начнём главу с признания. Изначальным импульсом к написанию настоящей книги послужило наличие на одной стороне улицы мемориальной доски Александру Козачинскому, а практически напротив – Евгению Петрову[370]. Ведь эта пара писателей пережила в юности такие драматические приключения, что одного их описания в повести «Зелёный фургон» оказалось достаточно, чтобы с этой единственной повестью Козачинский остался в истории литературы. Конечно, популярности способствовали и две экранизации повести – в 1959-м и в 1983-м годах, но ведь слабую повесть дважды не экранизируют. Короче, единственная повесть Козачинского – яркая иллюстрация поговорки: «Лучше маленькая рыбка, чем большой чёрный таракан».
Документально достоверно взаимоотношения Козачинского и Петрова впервые описал тесть Владимира – Юрий (по паспорту Георгий) Иосифович Чернявский – в повести «Печальный римейк»[371]. Напомним, что он же написал первую художественную биографию механика Новороссийского университета Иосифа Андреевича Тимченко, изобретателя первого в мире (за два года до братьев Люмьер!) киноаппарата[372].
Писатель, дважды наткнувшийся на уникальные архивные материалы и написавший на их основе две повести, заслуживает отдельного рассказа. Сделаем это не просто в память о нашем родственнике, а чтобы рассказать о человеке, своей судьбой иллюстрирующем, как становятся одесситами. Для этого не обязательно родиться в Одессе[373] и тем более не нужно в ней умереть. Не нужно даже долго жить в нашем городе. Важно, чтобы Одесса оставила отпечаток в душе человека и все свои дальнейшие поступки он соотносил с возможной реакцией на них в Одессе. Получилось заумно, поэтому проще показать на примере журналиста, сценариста, писателя Юрия Чернявского.
Родился он в Вологде, где тогда служил его отец. Школу закончил во Львове и сходу поступил на журналистский факультет университета имени вышеупомянутого Франко. Неплохое начало: на этот идеологический факультет брали после армии, партийных товарищей, но никак не выпускников школ. По распределению[374] приехал в Одессу, где вскоре возглавил отдел фельетонов областной комсомольской газеты. В Москве организуются Высшие сценарные курсы, на Украину «по разнарядке» выделяют два места, одно из них получает наш герой. Это было ещё сенсационнее, чем в 17 лет поступить на факультет журналистики. Среди сокурсников Юрия Чернявского Фридрих Наумович Горенштейн, Александр Михайлович (Алесь) Адамович, Марк Григорьевич Розовский, Илья Александрович Авербах… Удивительная атмосфера курсов ярко описана в последнем романе Юрия Иосифовича «Обратная точка съёмки»[375].
На Одесской киностудии он пытается заняться тем, чего нет. Помните диалог «сына Милосердова» и «дочери Академика» в фильме «Гараж»:
– У меня всё по штампу. Нормально. Закончила факультет, филологический в МГУ. Факультет невест называется, знаете? Занимаюсь сатирой.
– Русской или иностранной?
– Нашей.
– По девятнадцатому веку?
– Нет, современной.
– У Вас потрясающая профессия, Вы занимаетесь тем, чего нет.
Диалог, конечно, изрядно преувеличенный: сам же Рязанов снимал в основном именно сатиру – в том числе и «Гараж». Но жанр в целом – остроконфликтный, а потому зачастую (не только в СССР) гонимый. Напомним эпизод из советской истории. В 1952-м году на заседании комиссии по Сталинским[376] премиям Иосиф Виссарионович Джугашвили заявил: «Нам нужны Гоголи. Нам нужны Щедрины». Вскоре – в том же 1952-м – Георгий Максимиллианович Маленков включил в свой доклад – отчёт Центрального комитета партии XIX съезду – слова «Нам нужны советские Гоголи и Щедрины!» Уже в № 12/1953 сатирического еженедельника «Крокодил» появилась эпиграмма Юрия Николаевича Благова «Осторожный критик»:
Вот так – с риском потерять репутацию – Юрий Иосифович написал сценарий. В 1966-м году снят фильм «Формула радуги»[377]. Режиссёр – Георгий Эмильевич Юнгвальд-Хилькевич – тот самый, кто спустя 13 лет снял «д’Артаньяна и трёх мушкетёров». «Формула радуги» – его дебют в кино, как, кстати, дебют Натальи Владимировны Варлей[378]. Фильм, впрочем, победным ни для кого не стал. Его практически не показывали, усмотрев много «нехороших намёков»[379]. Вернули на экраны в Перестройку – спустя 22 года после создания. Для кино с его стремительно меняющимся языком – это почти вечность. Теперь фильм можно смотреть только из-за «звёздного» актёрского состава и песен Зацепина.
Дальше была работа автора самой «рейтинговой» (хотя тогда такого слова не было) передачи Львовского телевидения «Стоп-Кадр». Это была причудливая смесь сатиры в стиле киножурнала «Фитиль», невзоровских «600 секунд» и криминальной хроники – причём задолго до появления на телеэкранах и «600 секунд», и вообще криминальной хроники. Успех был громадный. Передачу закрывали, открывали, снова закрывали. Когда проводники не хотели брать передачу во Львов, Владимир применял «секретное оружие»: «Так это ж для Льва Львовича[380] из передачи «Стоп-Кадр»». Тогда и денег не хотели брать…
Первую книгу Юрий Иосифович издал уже после 60-ти. Ещё на Высших сценарных курсах он хотел писать сценарии о Тимченко и о Катаеве с Козачинским. Но не случилось. Поэтому о них были первые книги. Потом ещё несколько книг, и во всех – Одесса. Это и радовало и изумляло: в Одессе он прожил в сумме лет 7 из отпущенных ему 76. Но Одесса определила его мироощущение, чувство юмора стало одесским, любовь к городу осталась в сердце навсегда.
Сам Козачинский, а затем Чернявский описали взаимодействие пары Козачинский – Петров так изящно и достоверно, что читателю проще обратиться к «Зелёному фургону» и «Печальному римейку». Поэтому ограничимся здесь кратким конспектом этих трудов.
По канонической версии, Козачинский и будущий Петров подружились в Пятой гимназии[381].
Александр Владимирович Козачинский в 1917-м уходит, не окончив гимназию[382]. Идёт в милицию – сначала конторщиком, потом инспектором уголовного розыска. Попадает под суд за должностное преступление и получает срок в три года, но добивается оправдательного приговора и возвращается на службу. Правда, из Одессы уезжает в Балтский уезд – на самый север нынешней Одесской области. Из милиции дезертирует, когда вместе с немецким колонистом крадёт фургон с зерном – тот самый «зелёный фургон». Зерно это – взятка начальнику Балтской милиции[383], так что дальнейшая «карьера» Козачинского идёт в соответствии с тезисом: «если вас повесят за украденную курицу, почему бы не украсть ещё и овцу?» Козачинский возвращается в Одессу – точнее, в немецкую колонию Люстдорф (это ближайший пригород – километров 20 от центра города). Там, опираясь, на опыт работы в уголовном розыске, организует банду человек в 20. Она успешно «работает» два года. В 1922-м на одесском Староконном рынке, где нынче торгуют в лучшем случае рыбками и собачками, Козачинский реально торгует конями. Правда, они украдены – и украдены из конюшен ни больше ни меньше 51-й Перекопской дивизии, размещённой в это время в городе (в Книге 1 мы не раз её упоминали). Лошадей активно разыскивают, на Староконном Козачинский попадает в засаду[384]. По легенде в одном из милиционеров Козачинский узнаёт своего друга Евгения Катаева – ему и сдаётся. «Успехи» банды приводят к приговору, описываемому замечательным эвфемизмом «высшая мера социальной защиты» – расстрелу[385]. Гимназический друг помогает кассировать приговор. Дело пересматривают, расстрел отменяют, потом по амнистии Козачинского освобождают и он «белым лебедем»[386] летит в Москву. В газете «Гудок» верный друг Катаев – уже Петров – работает фельетонистом. Козачинский тоже становится газетчиком, работает в том же «Гудке», потом в других изданиях. В 1938-м – по настоятельному совету Петрова – пишет «Зелёный фургон», где описывает бурную молодость, а своего друга выводит как Володю Патрикеева. Умирает Козачинский в Новосибирске в 1943-м – в 39 лет! – от болезни сердца.
Евгений Петрович Катаев прожил практически столько же. И бурная молодость у них была похожа. Вот только если у Козачинского сначала был уголовный розыск, потом тюрьма, то у Катаева-Петрова наоборот: сначала он вместе со старшим братом посидел за «Маячный заговор» (см. предыдущую главу), а потом работал в уголовном розыске. Катаев-младший проходил все необходимые проверки и в сокрытии факта пребывания в тюрьме уличён не был[387]. Год рождения он изменил с 1902-го на 1903-й, а в церковные книги никто при проверке не заглянул (возможно, церковь на углу Белинского и Базарной уже закрыли), и подмена прошла гладко. Пришлось прожить жизнь более молодым человеком[388]. Возможно, в 1938-м что-то начали «копать», поэтому он обратился к Козачинскому с просьбой «беллетризировать» свою работу в одесском уголовном розыске. Более детальный анализ, проведенный, в частности, в «Печальном Римейке», показывает, что и в Володе Патрикееве, и в арестованном им главаре банды Красавчике[389] есть черты самого Козачинского. Более того, задерживал Козачинского не Катаев, а другой сотрудник уголовного розыска. Да и участие Катаева в организации пересмотра приговора – тоже легенда. В день вынесения приговора о расстреле Козачинского Верховным судом УССР – 1923–09–13 – Евгений Катаев подал рапорт о предоставлении отпуска, плавно перешедшего в отставку. Так что Козачинского в Москве он мог встретить словами комбата из песни Высоцкого: «А что не недострелили, так я, брат, даже рад!»[390] Уйдя из уголовного розыска, Катаев-младший двинулся к Катаеву-старшему в Москву. Он не догадывался, что главным в его жизни будет не воссоединение с братом, а содружество с Ильфом.
Вот мы и переходим к другой паре – Петров – Ильф, чьи житейские и творческие обстоятельства разбросаны по множеству публикаций, так что нам пришлось немало потрудиться ради их поиска – а потом ещё больше ради отбора наивыразительнейших подробностей.
Пара Петров – Козачинский практически не на слуху. Как мы рассказали, связывает их только драматическая коллизия, впрочем, достаточно типичная для той бурной эпохи. Зато пара Петров – Ильф или, в обиходе «Ильф и Петров» – совершенно другое дело[391]. Действительно, в творчестве этой пары нельзя просто говорить о примере невероятного синергетического эффекта, когда написанное вместе в разы лучше написанного по отдельности. Ведь формально об этом и судить нельзя: после начала работы над «Двенадцатью стульями» и до самой смерти Ильфа они вдвоём писали не только художественные произведения, но и деловые письма, и даже по редакциям ходили вдвоём. Раздельное – написано или ранее, в менее зрелом возрасте, или Петровым после смерти Ильфа, а отношение к ней видно из такого эпизода:
«Когда некролог Ильфа зачитывали на заседании комиссии по похоронам в стенах Союза писателей, кто-то сказал с невесёлой улыбкой, обращаясь к Петрову:
– Впечатление такое, Евгений Петрович, будто и Вас хоронят…
Петров ответил спокойно и тихо:
– И хороните. Это и мои похороны…»[392]
Евгений Петров пережил друга на пять с небольшим лет: «Дуглас», на котором он возвращался из Краснодара с заметкой, написанной в осаждённом Севастополе, уходил от атаки немецких самолётов – и врезался в курган в Ростовской области[393]. Петров не погиб ни в самом городе, ни на лидере «Ташкент», чей последний переход в Новороссийск отмечен многими часами немецкой бомбёжки (в общей сложности – примерно 360 бомб), ни в автомобильной аварии по дороге из Новороссийска в Краснодар. Но смерть всё же настигла его. Абсолютной табели о рангах в искусстве нет. Мы помним прекрасных молодых поэтов, погибших на фронте, и можем только догадываться, каких прекрасных произведений лишились. Но из уже состоявшихся писателей, погибших в Великую Отечественную, Евгений Петров – значительнейший. Константин Симонов, бывший с Петровым на Кольском полуострове, написал стихотворение «Смерть друга». Оно из тех, что хочется учить наизусть, даже если Вас «перекормили» литературой о войне в школе.
Повторимся: со дня смерти Ильфа Петрову отпущено пять лет, два месяца и 19 дней. После смерти соавтора Петров опубликовал часть дневников Ильфа и задумал большую книгу «Мой друг Ильф». Также он руководил журналом «Огонёк» и написал ещё несколько киноповестей. «Ещё несколько», т. к. совместно они написали титры к изумительной немой комедии «Праздник Святого Йоргена» с неподражаемыми Ильинским и Кторовым, сценарии к двум фильмам без особого успеха[394], а также сценарий (совместно с В. П. Катаевым) к поставленному режиссёром Александровым фильму «Цирк». В последнем случае, по их мнению, замысел был так искажён, что авторы сняли свои имена из титров. Точнее, Александров взял успешную пьесу трёх авторов «Под куполом цирка» и – как Микеланджело – «отсёк всё лишнее», но кое-что и приклеил[395]. А могли остаться в титрах и – скорее всего – стать «орденоносцами». В те годы это было так почётно, что потом в титрах комедий «Музыкальная история», «Антон Иванович сердится» или «Воздушный извозчик» писали бы «сценарист – дважды орденоносец Евгений Петров»[396].
Итак, главная суть этого творческого союза в том, что за годы работы возник один писатель – «Ильф и Петров». В Одессе – ещё одна «маленькая забавная подробность» – есть достаточно населённая улица Ильфа и Петрова и небольшой переулок Катаева (правда, он отходит от Пироговской улицы, где Катаев жил в квартире 56 дома № 3 – см. главу 7). Рискнём предположить (with all due respect, как выражаются в американских фильмах герои прежде, чем высказать резкое мнение), что число читателей Ильфа-Петрова и Катаева в мировом масштабе пропорционально числу жителей улицы и переулка. Даже Дмитрий Быков, называя в своём учебнике Катаева лучшим советским писателем, одновременно уточняет, говоря о последних произведениях Валентина Петровича: «И Катаев стал одну за другой печатать лучшие свои вещи, которые только и поставили его наконец в один ряд с гениальными друзьями и сверстниками: Багрицким, Есениным, Олешей, Ильфом и младшим катаевским братом Петровым…»[397] Представьте, дорогие экскурсанты, мы подойдём к домам, где жили все гениальные писатели из этого списка (кроме, понятное дело, Есенина)!
Апофеоз союза – написание «Одноэтажной Америки»: по 20 глав написал каждый по отдельности, семь – совместно. Юрий Олеша, прекрасно знавший каждого[398] – и тот не смог идентифицировать авторства. Это объяснил другой одесский писатель – Лев Славин (о нём мы немного рассказали в книге 1 – стр. 199–202): «В последние годы своей совместной работы они словно пронизали друг друга. Лучший пример этого слияния – целостность «Одноэтажной Америки», которую они писали раздельно. Книга эта стоит, на мой взгляд, ничуть не ниже сатирических романов Ильфа и Петрова. А местами по силе изображения и выше»[399].
Последняя фраза Славина замечательно коррелирует с лекцией Дмитрия Быкова (со ссылки на неё мы начали эту книгу). Ильф и Петров за 10 лет работы написали фантастически много[400]. Точнее, писал Петров, как обладавший лучшим почерком: лишь в только что упомянутой «Одноэтажной Америке» Ильф «свои» 20 глав напечатал на привезенной из СГА пишущей машинке. Но фраза, приписываемая академику Льву Давидовичу Ландау по поводу фундаментального многотомника «Теоретическая физика», за который он и тогда доктор физико-математический наук[401] Евгений Михайлович Лифшиц получили Ленинскую премию 1962-го года: «в этом труде нет ни одной моей фразы, впрочем, как и ни одной мысли Лифшица», в случае Ильфа и Петрова в корне неверна. Они обговаривали, обсуждали, отвергали, редактировали все сюжетные ходы, фразы, эпитеты. Если бы весь текст был написан таким образом, каким определял монтёр Мечников («согласие есть продукт при полном непротивлении сторон»), то издательство «Альфа-книга» не смогло бы выпустить в одном томе всё совместно сочинённое ими за 10 лет. Это просто не вместилось бы в 1280 страниц убористого шрифта. Но именно в спорах, принципиальности, сопротивлении сторон родились произведения Ильфа и Петрова. Главные из них, несомненно, «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок» и «Одноэтажная Америка».
С дилогией про Остапа Бендера может в нашей литературе сравниться по количеству комментариев, исследований, споров и дискуссий только булгаковский роман «Мастер и Маргарита».
В случае «Тихого Дона» (мы уже позволили себе назвать его главной русской книгой XX века) 90 % исследований – в том числе с применением математико-статистического аппарата – сводятся к установлению авторства. Приятно, что дилогия не избежала подобной участи: появилось исследование, посвящённое тому, что «ДС» и «ЗТ» написали вовсе не Ильф и Петров, а всё тот же Булгаков[402]. Но всё же большинство работ обсуждают не авторство, а историю создания романов и – что ещё увлекательнее – отношение авторов к окружающему их миру.
Тут действительно есть где развернуться. Так, показателен имеющийся у авторов двухтомник[403]: введение Юрия Константиновича Щеглова занимает 4 страницы, его же очерк – 98 страниц, текст романов – 650 страниц, комментарии даны на 503 страницах, список литературы к комментариям – на 15.
Правда, мучавшую нас примерно 50 лет[404] загадку – кто тот таинственный товарищ, «из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше Греции», пенявший авторам, почему они пишут смешно – Щеглов нам не раскрыл. Для нас это позже сделал Дмитрий Быков, указавший: это Максим Горький. Нам сразу полегчало.
Чуть отвлечёмся: так же долго мы ждали текст второй и четвёртой строчек песенки Принцессы из «Бременских музыкантов» – на пластинке 1969-го года их расслышать мы не могли. Только в начале XXI века, когда вышла книжка, объединившая все три истории – «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов» и «Новые бременские», мы наконец-то прочли:
Разгадка была изящной, хотя не стоила почти полувека ожидания.
Впрочем, разгадок текстов Высоцкого (его мы коллекционировали в магнитофонных записях – см. главу 6) пришлось ждать до выхода 18 пластинок-гигантов и даже дольше – до насыщения Интернета хорошо очищенными от помех записями его песен.
Прежде чем продолжить рассказ о главных произведениях писателя Ильфа-Петрова – несколько слов собственно об Ильфе.
В отличие от Петрова, он не менял год своего рождения[405]. Иехиел-Лейб Арьевич – в советское время Илья Арнольдович – Файнзильберг родился 1898–10–15. Двум его старшим братьям не повезло с третьим. Самый младший сын Арье Беньяминовича и Миндль Ароновны – Беньямин – был нормальным инженером-топографом и прожил, соответственно, нормальную жизнь. А вот двое старших были натуры исключительно творческие, яркие и талантливые, но неспециалисты в живописи и фотографии вспоминают их исключительно как старших братьев Ильи Ильфа.
Самый старший – Сруль (то есть Израиль), а впоследствии Саул – вошёл в искусство живописи и фотографии как Сандро Фазини. Он работал в ЮгРосТА под руководством Бориса Ефимова, однако в 1922-м эмигрировал. В Париже стал известным художником-кубистом и сюрреалистом (а выставляться в знаменитых парижских салонах – если вспомнить фразу из сценария Виктории Самойловны Токаревой (Зильберштейн) «Джентльмены удачи» – «это не мелочь по карманам тырить»). Проявил он себя (как и остальные «творческие» братья) и как фотохудожник. Он предлагал Ильфу, возвращавшемуся из поездки по СГА и встретившемуся с ним в Париже, пройти хорошее обследование по поводу стремительно развивавшегося туберкулёза, но Илья Арнольдович спешил домой к семье… Ильф скончался от этой болезни 1937–04–13. Сам Саул Арнольдович погиб в Освенциме в 1942-м вместе с женой. Французское правительство в Виши так «выслуживалось» перед нацистами, что само депортировало евреев – даже граждан Франции – в немецкие лагеря уничтожения.
Таким образом погибла, в частности, изумительная писатель Ирен Немировски. Германия покаялась за Холокост, оказывает финансовую поддержку не только выжившим, но и, например, гражданам СССР, вынужденно пребывавшим в эвакуации в годы Второй мировой. Франция, увы, максимум, что сделала – вручила Ирен Немировски литературную премию за чудом сохранившийся и незаконченный роман «Французская сюита». Покаяние – в том, что именно такую литературную премию посмертно обычно не вручают…
Мойше Арн (он же Михаил) Арнольдович на три года старше Ильи и на три года младше Саула – маленькая арифметическая задачка. После небольшой паузы сообщим – он родился в 1895-м и уже в Одессе (Саул – в Киеве). Михаил стал советским художником-графиком и фотографом и умер, как и его братья Илья и Саул, сравнительно молодым – в 1942-м году, то есть в 47 лет. Из его псевдонима МАФ следует, что и псевдоним Ильф не от ИЛЬя Файнзильберг, как традиционно считается, а, по еврейской средневековой традиции именных аббревиатур[406], из Иехиел Лейб Файнзильберг или ИЛФ.
Как бы то ни было, вместо элегантной, но длинной фамилии «тонкое серебро» (так переводится Файнзильберг) появилась лаконичная и отточенная – как фраза из знаменитых записных книжек – фамилия Ильф.
Но до этого предстояло закончить с отличием Еврейское ремесленное училище общества «Труд» (про училище – в следующей главе), поработать чертёжником, потом на одесском аэропланном заводе «Анатра»[407], потрудиться бухгалтером в заведении с классическим раннесоветским названием «Опродгубком», то есть в «особой губернской продовольственной комиссии» вместе с Берлагой, Лапидусом, Кукушкиндом и Бомзе – они благополучно «перекочевали» в «Геркулес»[408] вместе с придуманным Александром Ивановичем Корейко.
Наблюдательность и умение всё увиденное перекристализовать в роскошный литературный самоцвет – вот черта настоящих мастеров пера. Параллельно со скучной работой в кассово-операционном столе «Опродгубкома» Ильф – вместе с персонажами «списка Быкова» Катаевым, Олешей, Багрицким – состоит в литобъединении «Коллектив поэтов».
Начало двадцатых – годы очередного Большого исхода из Одессы. В главе о Бялике мы писали об отъезде за пределы страны 35 семей видных деятелей еврейской культуры. В том же году в Харьков уезжают Катаев и Олеша, чтобы через год «осесть» в Москве. В 1924-м – после смерти отца – в Москву окончательно переезжает Бабель. Последним из «Списка Быкова» – в 1925-м – в столицу СССР едет Багрицкий. Как мы отмечали, Петров едет в Москву в сентябре 1923-го. «Внимание, вопрос: назовите год переезда в Москву Ильфа?» Уверены, что ответ будет досрочным: тоже 1923-й!
Конечно, они вместе работают в «Гудке», где Ильф пишет едкие фельетоны с абстрактными и безымянными персонажами, а Петров – короткие юмористические рассказы с «внятным» (любимое слово Петра Львовича Вайля) сюжетом, конкретными характерами и диалогами[409].
Дальше начинается ясная история, более всего характеризуемая словами Мюллера из энциклопедии советской – и, как оказалось, пост-советской – жизни: «Ясность – это одна из форм полного тумана»[410]. Итак, кратко напомним каноническую версию: «Старик Собакин», он же Валентин Катаев, уже суперпопулярный благодаря повести «Растратчики», придумывает, что Ильф и Петров будут его «литературными неграми»[411]. В качестве первой работы предлагается «перелицованный» рассказ Конан-Дойля[412] «Шесть Наполеонов»: вместо жемчужины Борджиа – «сокровища мадам Петуховой», вместо шести гипсовых слепков бюста Наполеона – ореховый гарнитур мастера Гамбса[413]. Мэтр едет в отпуск, авторы начинают (август либо сентябрь 1927-го)[414], Катаев возвращается, у авторов так классно выходит первая часть романа, что Валентин Петрович, чьи консультации с Зелёного мыса под Батумом ограничивались телеграммами в стиле «Решайте сами, но решайте правильно», отказывается от соавторства, просит написать ему посвящение и подарить то ли золотой, то ли серебряный портсигар.
В конце 1927-го или начале 1928-го года Ильф и Петров везут рукопись на санках (примета зимы) из редакции домой, указав адрес авторов на случай потери рукописи из оных саней. И очень переживают, возьмутся ли журналы напечатать роман. Но – о чудо (!) – сразу в январе журнал «30 дней» начинает печатать роман, и печатает до июля.
Всё красиво и гладко: посвящение Катаеву имеется на любом из сотен изданий на десятках языков; про портсигар тоже поверим; нюансы только по отличиям журнальной версии и «канонической», то есть первого книжного издания. Комментарии Ю. К. Щеглова (как мы убедились, педантично их прочитав) в основном описывают забытые к нашему времени реалии эпохи. Противоречия канонической версии выявили (на наш взгляд, грамотно и профессионально) только М. П. Одесский и Д. М. Фельдман, когда подготовили комментарии к изданию, впервые давшему читателям знакомство с полным текстом романов. Обнаружились такие замечательные «скелеты в шкафу», что не можем о них не рассказать хоть сверхкратко. Полную же версию исследования[415] предлагаем в качестве «домашнего задания».
Заметим, что у Михаила Павловича Одесского и Давида Марковича Фельдмана – просто гениальные фамилии для исследования творчества Ильфа и Петрова. Кроме всего прочего, наш Приморский бульвар с 1919-го по 1944-й год носил имя анархиста и секретаря Одесского губисполкома Александра[416] Фельдмана, застреленного бандитами в 1919-м году[417].
Как бы то ни было, почтенные доктора филологических (Одесский) и исторических (Фельдман) наук отмечают следующее:
Постепенно издаваемые[418] мемуары Е. Петрова полны очаровательных лирических подробностей для маскировки реально происходивших событий.
Реальные события, не упоминаемые Петровым, таковы:
Петров не мог не быть знаком с Ильфом в Одессе: он не только ходил на вечера «Коллектива поэтов», но и был – до работы в угрозыске – разъездным корреспондентом ОДУКРОСТА[419]. Просто руководил ОДУКРОСТА и познакомил Ильфа с Петровым в Одессе Владимир Иванович Нарбут, репрессированный ещё в 1936-м, уже в заключении осуждённый повторно и расстрелянный в 1938-м. Поэтому в мемуарах Петрова появляется невероятная для журналиста – да ещё и с прекрасной памятью – фраза: «Я не могу вспомнить, как и где мы познакомились с Ильфом. Самый момент знакомства совершенно исчез из моей памяти», причём момент этот перенесён в Москву.
Первая часть романа, как проговаривается Петров, писалась с колоссальным напряжением сил, но «написана вовремя»; иными словами, как сейчас говорят, «dead-line», то есть договор с журналом – причём на конкретный срок – на самом деле был, и переживания «напечатают – не напечатают» придуманы. Подробно анализируя издательский процесс того времени, включавший и цензуру и чисто технические моменты, Одесский и Фельдман показывают: кроме договора, были и личные согласования издания не только с заведующим редакцией Василием Александровичем Раппопортом (Регининым), во «Времени больших ожиданий» Паустовского названным «приятелем всех одесских литераторов», но и с главредом журнала – всё тем же Нарбутом[420].
Нарбут спешил выполнить социальный заказ, связанный с очередным этапом борьбы в высших эшелонах партии. Громили «левый уклон» – мечты Троцкого о мировой революции, его заявления, что разгром коммунистов в Шанхае, начавшийся 1927–04–15, является сигналом к удушению СССР, что НЭП нужно сворачивать, чтобы истребить почву возврата к капитализму, и т. д. и т. п. Поэтому Ильф и Петров пишут роман, где ярко и убедительно показывают, что СССР очень стабилен, даже «бывшие» как-то встроились в систему, и никакая реставрация капитализма невозможна. Трагедия коммунистов в Шанхае – событие печальное, но обсуждается жителями уездного города N[421] наряду с мелкими городскими новостями.
Природно-ироничный стиль одесситов Ильфа и Петрова замечательно подошёл не только для опровержения мифов «левого уклона» в политике, но и для критической оценки различных проявлений действительности[422]. В борьбе с «левой оппозицией» годилось и разрешалось почти всё: высмеивать политические клише и бесконечные «лекции о международном положении», пародировать видных советских деятелей «левого искусства» и даже критиковать «шпиономанию».
Окно возможностей закрывалось настолько быстро (по мере ослабления позиций Троцкого в конце 1927-го – начале 1928-го года), что даже в текст рукописи вносили изменения. Так сверхдолгая линия жизни мадам Грицацуевой уже в рукописи обещала ей дожить не до «мировой революции», а до «Страшного суда», что делает шутку бессмысленной для человека, хоть немного знакомого с канонами христианской веры.
Что-то мы увлеклись пересказом исследования. Не будем лишать экскурсантов удовольствия выполнить, как мы сказали, увлекательную домашнюю работу и изучить труд самостоятельно. Тогда вы узнаете, когда начата работа над «Золотым телёнком», сколько времени на самом деле писался второй роман, помешало ли его написанию увлечение Ильфа фотографией… Повторим, что мы это исследование прочли с полным восторгом, поскольку речь шла о любимых романах – их мы перечитывали больше, чем любые другие книги.
Считая дилогию (особенно «Золотой телёнок») просто Библией – или минимум «Новым Заветом» – одессита, мы, честно сказать, с ревностью обнаруживали, что романы любят все. Наверное, только творчество Высоцкого пользовалось такой же бесспорной любовью всех – от членов Политбюро до пролетариев и даже, рискнём предположить, люмпен-пролетариев. И в романах Ильфа-Петрова, и в стихотворном творчестве Высоцкого жизнь отражена во всей её полноте, разнообразии, настолько объёмно, узнаваемо и одновременно столь ярко, что благодарные читатели могли как-то справиться с этим могучим потоком только разбив его на ручейки. Так мы объясняем «расчленение» романов (и песен Высоцкого) на бесконечное количество цитат – практически поговорок. Только Грибоедов обогатил русский язык соизмеримым количеством афоризмов.
Если верить Юрию Петровичу Любимову, отец Высоцкого в ответ на просьбу Любимова помочь в лечении сына ответил: «Я с этим антисоветчиком дело иметь не буду». Примерно так же думали «генералы от литературы» об Ильфе и Петрове, но тщательно отгоняли от себя – и тем более от читателя – эти крамольные мысли. К. М. Симонов в предисловии к первому после значительного перерыва изданию их произведений (1956) пишет, что романы созданы «людьми, глубоко верившими в победу светлого и разумного мира социализма над уродливым и дряхлым миром капитализма». В 1961-м выходит второй («красный») пятитомник[423]. В предисловии Давида Иосифовича Заславского сообщается, что «весёлый смех Ильфа и Петрова в своей основе глубоко серьёзен. Он служит задачам революционной борьбы со всем старым, отжившим, борьбы за новый строй, новую, социалистическую мораль»[424]. Появление таких фраз означает: разглядывая многослойную ткань дилогии (и, как показал Дмитрий Быков, неотделимой от неё «Одноэтажной Америки»), микроскоп можно наводить на различные слои, в том числе и антисоветские.
Пример такого наведения продемонстрировал одесский бард Александр Каменный – он же когда-то сотрудник уголовного розыска Одессы Александр Эдуардович Штейман. Оснащая «Рога и копыта», Балаганов покупает пишущую машинку «Адлер» «с турецким акцентом» по выражению Бендера: в ней нет буквы «е», и приходится её заменять на «э». На машинке печатают «ПОВЭСТКУ» для вручения потенциальному свидетелю по «делу Корейко». Каменный – как и положено хорошему следователю – анализирует по пунктам:
«Турецкого акцента» в нашем обиходе нет; «э» вместо «е» используют, чтобы передать грузинский акцент.
«Адлер» по-немецки означает орёл; у города с абхазским названием Адлер недалеко от Сочи уже в те времена была дача Сталина.
Итак, орёл, проживающий в городе «Адлер» либо в его окрестностях и говорящий с грузинским акцентом – то есть конкретно Сталин – печатает «повестки». Каменный говорит даже (для убедительности): первое, что напечатали на этой пишущей машинке – «Повэстка». Но это не соответствует тексту главы 15 «Золотого телёнка». Поэтому рискнём предположить, что остроумное это исследование записывает Ильфа и Петрова в антисоветчики так же необоснованно, как мнение отца – Высоцкого.
Скажем даже больше. Идея выполнения социальных заказов при написании романов[425], аргументированно изложенная Одесским и Фельдманом, тоже не полностью отражает ход творческой работы. На наш взгляд, лучше всего сослаться на фразу из письма Пушкина: «Представьте, что учудила моя Татьяна, – взяла да и вышла замуж!» Да, был и социальный заказ, и беспрерывно меняющаяся политическая конъюнктура[426], и тысячи житейских фактов и обстоятельств. Но прежде всего был высочайший профессионализм и чувство логики повествования, ведшее авторов.
А ещё была (хоть это слово затаскано) порядочность, проявившаяся в том, что Ильф и Петров не участвовали (в отличие даже от Маяковского!) в травле Пильняка и Замятина, отказались написать очерк в сборник по итогам плаванья 36 писателей во главе с Горьким по Беломорско-Балтийскому каналу[427]. Петров, рискуя, что его смертельно больной друг не дождётся выхода «Одноэтажной Америки», отстаивал перед редакцией журнала «Знамя» авторскую версию, где оба автора, путешествовавшие по СГА как корреспонденты «Правды» (sic!), с восхищением писали о многих сторонах американской жизни. Владимир перечитал эту книгу в 2005-м – после первой поездки в СГА – и убедился: основные черты американской жизни – динамизм, деловитость, масштаб – и верно увидены, и остались без изменений.
Перечитайте «Уже написан Вертер» и – одновременно – статьи Катаева той же поры. Сравните «Тихий Дон» и выступления Шолохова на писательских съездах. Посмотрите, кто исключал Пастернака из Союза писателей, и прочитайте литературные произведения лучших из них. Как сказал бы Ипполит Матвеевич Воробьянинов «Я думаю, дихотомия – [советский-антисоветский] – здесь неуместна».
… В особняке одесских графов Толстых[428] висит зеркало венецианской работы. Если поднести свечу, то увидишь несколько отражений. Чем зеркало качественнее, тем меньше света теряется и в его толще, и при отражениях (и от амальгамы, и от лицевой поверхности стекла) – соответственно тем больше отражений пламени. Вот такое зеркало высшего качества и создали в своих главных трудах наши гениальные земляки. Подносишь свой источник света и видишь несколько причудливых отражений многослойной жизни.
Завершим же кратким пересказом самой последней совместной работы Ильфа-Петрова – повести «Тоня». Тоня с мужем едет в Вашингтон, он – новый шифровальщик посольства. Подруги завидуют Тоне, но у них яркая, хоть и трудная жизнь в СССР, а у Тони – скучное безделье в СГА. Приведём полностью последние абзацы самого-самого последнего (1937) совместного труда.
«И вдруг Костя вернулся. Он вернулся назад так скоро, что вряд ли успел дойти до канцелярии. Но нет. Он был там. И даже принёс оглушительную новость. Его срочно переводят в Москву.
– Тут я уже ничего не могу сказать! – возбуждённо кричал он.
Вот и всё. Так просто, неожиданно, а главное, быстро решилась Тонина судьба. Вовка не мог понять, откуда привалило к нему такое неслыханное счастье: мама так и не помыла его в это утро, и он весь день бродил с немытой физиономией, спотыкаясь о разложенные на полу чемоданы, таща за собой мамины платья и папины галстуки.
Через две недели поезд Париж – Негорелое вышел с польской станции Столбцы и двинулся к советской границе. На полустанке Колосово он на минуту задержался. Ещё на ходу стали соскакивать польские жандармы в щеголеватых шубках с серо-собачьими воротниками. Поезд очень медленно прошёл ещё несколько метров. Тоня с замиранием сердца стала протирать стекло и увидела во мраке зимнего вечера деревянную вышку, на которой стоял красноармеец в длинном сторожевом тулупе и шлеме. На минуту его осветили огни поезда, блеснул ствол винтовки, и вышка медленно поехала назад. Часового заваливало снегом, но он не отряхивался, неподвижный, суровый и величественный, как памятник».
Как говорится, «конец цитаты». О судьбе Кости, Тони и их маленького сына можно пофантазировать. А мы продолжим прогулку по Базарной в следующей главе.
- Глава 6 Путь к кино
- Глава 7 «Неистовый» Корней
- Глава 8 Бялик на улице Бялика
- Глава 9 Бремя больших ожиданий
- Глава 10 Улица литераторов – часть 1
- Глава 11 Литературный покер: две двойки
- Глава 12 Улица литераторов – часть 2
- Глава 13 Выглядывающий из вечности и неисправимый жизнелюб
- Глава 14 Абрамович и Рабинович
- Глава 15 Свобода – точка отсчёта
- На Страндвеген
- Поездка в Аюттаю. Две эпохи – две столицы
- «Возьми две кварты спирту»
- Медведева Пустынь
- Часть одиннадцатая. Подведем итоги
- Тайная дверь
- Подвела надежда на «авось»
- Десять трактиров на двести дворов
- Медвежий стан
- Здание Двенадцати коллегий
- Патриаршие палаты с церковью Двенадцати Апостолов
- Две базилики




