Книга: По следам литераторов. Кое-что за Одессу
Глава 14 Абрамович и Рабинович
Глава 14
Абрамович и Рабинович
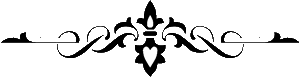
Мы закончили предыдущую главу разговором о чуде. В Израиле, само образование и выживание которого в первые годы было чудом, говорят именно так, как мог бы сказать Куприн: «Кто не верит в чудеса – тот не реалист». Еврейская тема, неоднократно возникавшая в ходе нашей прогулки, будет звучать на протяжении оставшихся 850 метров экскурсии. Мы подойдём к дому № 28 по Канатной, где жил Шолом-Алейхем, расскажем о «дедушке еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфориме, чья мемориальная квартира размещалась в соседнем доме, и повернём на Еврейскую, № 1, чтобы поговорить о самом ярком одессите – Владимире Жаботинском.
Но прежде чем оказаться на Канатной, нам предстоит пройти 600 метров по первому кварталу Маразлиевской, и по Сабанскому переулку. На этом небольшом участке сосредоточено так много красивых домов, что задержки неизбежны. Иначе получилось бы, как в имеющих широкое хождение в Интернете воспоминаниях экскурсовода из Эрмитажа:
– Что вы хотите посмотреть?
– Всё!
– Тут 15 километров экспозиций!
– И прекрасно; за три часа[522] мы всё обойдём!
У нас вот не получится за 12–15 минут дойти до дома Жаботинского. Но как бы то ни было, мы практически на финишной прямой. И большая часть этой финишной прямой идёт по рукотворному чуду – улице Маразлиевской.
Вначале, как это обычно и бывает, появилась улица, банально названная «Новой». Таких названий, регулярно возникающих по мере роста города, в топонимике Одессы около десятка. «Наша» Новая пролегала от Барятинского переулка (ныне – переулок Нахимова) до Ново-рыбной (ныне – Пантелеймоновской). Потом на квартале между Базарной и Большой Арнаутской возникла канатная фабрика, перегородила Новую улицу, разделила её на две и этим нарушила план застройки. Как видим, «деньги в период реконструкции решают всё». Ту часть, что ныне является улицей Маразлиевской, украсил Архангело-Михайловский девичий монастырь – в связи с ним эту часть назвали Михайловской улицей. Однако оставалась она по генплану Де-Волана[523] улицей окраинной, примыкала к карантину, где 40[524] суток «выдерживали» гостей города (см. главу 1), и была населена бедняками. Участки на ней скупила семья будущего легендарного городского головы Григория Григорьевича Маразли. И начали происходить «рукотворные чудеса».
Сначала убрали карантин и разбили парк. Александр II лично одобрил план парка и торжественно открыл его в сентябре 1875-го, собственноручно посадив дуб, собственноручно распиленный на дрова одесситами в холодном 1918-м[525]. Парк назвали Александровским. Он фигурирует в массе литературных произведений про Одессу и по сей день остаётся лучшим в городе. В нём даже появился четвёртый памятник Одессы[526] – Александровская колонна; «наша» Александровская колонна – очередной знак непрерывного соревнования Южной и Северной Пальмиры[527].
Второе «рукотворное чудо»: Маразли практически «без-воз-мез-дно, то есть даром» раздаёт участки по Михайловской улице состоятельным гражданам – с тем, чтобы получившие их строили красивые и оригинальные дома[528]. Собственно, чудо не только в том, что Маразли так бескорыстен. У него мог быть и расчёт: ничто так не практично, как хорошая теория – и ничто так не прагматично, как красивая постройка. Сколько дополнительных туристов привлёк в Одессу наш Оперный театр! Красивые улицы (а Маразлиевская среди них точно в первой десятке) способствовали развитию города, что было «на руку» мудрому городскому голове. Чудо ещё и в том, что все, кто получил участки, не нарушают слова и строят действительно прекрасные дома.
И последнее «рукотворное чудо»: 1895–11–23 удовлетворено ходатайство Одесской городской думы – улицу назвали Маразлиевской в честь бывшего городского головы, но вполне живого Григория Григорьевича. В Российской империи – беспрецедентный случай. Большевистские вожди проще относились к этому вопросу. Сейчас ситуация почти дореволюционная: есть бульвар Жванецкого (правда, нет домов с таким адресом), и улица Валентины Терешковой – «чтоб они нам были здоровы».
Можно рассказывать о каждом доме, построенном на Маразлиевской, но тогда мы до Шолом-Алейхема не дойдём. Поэтому отметим только несколько.
Дом, где жил Куприн, построили в начале XX века архитекторы Моисей Исаакович Линецкий и Самуил Савельевич Гальперсон. На фронтоне достаточно типичное для домов в стиле модерн женское лицо: примерно такие же можно увидеть на гостинице «Большая Московская» (см. главу 4). Аналогичные лица на домах по Маразлиевской № 54 и № 5, но у всех девушек на фасадах домов по Маразлиевской… петли на шеях. Про дом № 54, принадлежавший помещику Крыжановскому, сложили легенду, что это его повесившаяся дочь. Легенда слабая: кто бы хотел постоянно иметь на фасаде собственного дома напоминание о таком трагическом происшествии? Более романтична версия, что на месте указанных трёх прекрасных зданий были дома, куда заманивали девушек, чтобы потом переправить в турецкие гаремы. Подтверждения нет, но барельефы забавные. Выскажем собственную версию: рядом Канатная улица, поэтому перед нами реклама канатной фабрики Новикова[529] либо иллюстрации к справочнику по морским узлам.
На месте усадьбы Марии Анисимовны Менделевич (№ 14 по Маразлиевской) построили два очень красивых – хотя и диссонирующих – дома.
Дом № 14б (он ближе к началу улицы) – высокий, пятиэтажный. Архитектор Яков Самуилович Гольденберг построил его как доходный для Якова (Жака) Абрамовича Наума в стиле то ли «строгий модерн»[530], то ли «ампир»[531]. Со стилем неясно, но украшен дом барельефами каменщиков по моде того времени[532]. Дом очень высокий (как достижения России в 1913-м году, когда он построен), но вписан буквой «П» в небольшое пространство, чтобы увеличить периметр. Решение «технологичное», но окна боковых флигелей «заглядывают» друг в друга.
Дом 14а построен для Юлии Степановны Мортон в 1905-м году. В его фасадах множество элементов модерна[533]. Маскароны[534]-египтянки эффектно смотрятся на фасаде над окнами верхнего этажа. Ворота дома «стерегут» своеобразные фигуры: туловище грифонье – львиное с орлиными крыльями, но голова и грудь – не птичьи, как у грифона, а женские, как у сфинкс[535]. Головы сфинксогрифонов покрыты древнеегипетскими головными уборами. Между ними размещён картуш: надвратным крылатым женщинам-львицам помогает его поддерживать ещё и некий бородатый мужчина. Дом одновременно и небольшой, и «мощный»: занятное сочетание (аналогичное в этом отношении здание мы уже видели на Белинского, № 11/1: см. главу 9). Сейчас в этом особняке находится офис акционерного общества «Пласке»; о роли президента «Пласке» Олега Исааковича Платонова в деле сооружения памятника Бабелю мы рассказали в главе 4.
Дом № 18 располагается в глубине улицы. Вообще на Маразлиевской много таких особняков, чем она напоминает, пожалуй, только переулок Ляпунова (см. Книгу 2, стр. 12–13): на остальных улицах исторического центра большинство домов стоят строго по «красной линии». Дом построил в 1880-м Л. Л. Влодек, нам уже отлично известный[536]. Здесь была «домашняя» резиденция одесского градоначальника.
Рядом – доходный дом Панкеева, архитектор – тот же Л. Л. Влодек. Дом тоже «особнячного» вида, прекрасно сохранились решётки окон бельэтажа.
Дом № 28 – рустовка, дворцовые окна второго этажа, «имперский» вид, хоть дом и невелик. Конечно, это Викентий Иванович Прохаска[537].
Мы подошли к углу Маразлиевской и Сабанского переулка и сворачиваем в него. На углу – как и положено, очень красивый дом, красивый даже для Маразлиевской улицы. Это один из самых первых элитных домов Одессы. Его построили с соблюдением стиля дома, созданного Бернардацци (вновь напомним: архитектора «Новой биржи» и гостиницы «Бристоль»), принадлежавшего Маразли и разобранного в 1970-е годы как пришедшего в ветхое состояние. Увы, производительность в ремонте всегда несопоставима с производительностью в строительстве – почти любой дом проще разобрать, чем реставрировать. Новый дом похож на творение Бернардацци, но в современном 7 этажей, хотя высота, насколько мы помним, примерно та же, что и в исходной четырёхэтажке. Ходили слухи, что «авторитет» Карабас[538] построил квартиру именно здесь, но «жить в эту пору прекрасную уж не придётся…»
По чётной стороне Сабанского переулка ещё один новый элитный дом, а по нечётной – посредине переулка – могучий дом, дорастающий до рекордных для дореволюционной Одессы шести этажей[539]. Удивительно, но он смотрится мощно даже рядом с новым 16-этажным домом на углу Канатной и Сабанского переулка. Кстати, Сабанского – как мужа Каролины Собаньской (забавно это «блуждание» «о» и а»; также у Овчинникова и Авчинникова – см. главу 5) – мы упоминали в главе 3.
Что-то пора нам завершать прогулку – слишком много отсылок к уже написанному тексту. Впрочем, нам осталось всего три остановки, четыре писателя и 230 метров пути.
Как Вы уже убедились, палитра одесской жизни невозможна без еврейской краски. В финале нашей прогулки будет именно эта краска, что отнюдь не означает монохромности: например, даже мужчины в состоянии различить четыре оттенка розового цвета, а женщины – не меньше 60-ти (про оттенки серого мы, понятное дело, и не говорим).
Но в начале общетеоретические факты:
Российская империя (мы это уже кратко упоминали) получила евреев «в нагрузку» к территориям, доставшимся при разделе Польши. Как ни парадоксально, пресловутая «черта оседлости», так осложнившая жизнь еврейского населения Империи, первоначально просто приравнивала присоединённых евреев в правах к остальным жителям империи, тоже лишённым права свободного перемещения[540].
После штурма Хаджибея в ночь на 1789–09–14 Иосиф Дерибас обнаружил в прилегающем к замку форштадте пять еврейских семей. Так что еврейской население Одессы старше самой Одессы. Книга «Прогулки по еврейской Одессе»[541] приводит сведения о том, что и сам основатель Одессы происходил от евреев, изгнанных из Испании в 1492-м году. Поэтому включение Одессы в черту оседлости очень логично.
Демографическим следствием включения Одессы в черту оседлости стало то обстоятельство, что в конце XIX – начале XX века Одесса была третьим городом в мире (!) – после Нъю-Йорка и Варшавы – по еврейскому населению: 136 512 человек – 34.3 % от 397 993 постоянных жителей[542]. В 1923-м году евреи составляли уже 48.2 % населения города, но основные герои нашей книги Одессу уже покинули. Политическое значение этого обстоятельства мы описали в главе 5.
Культурным же следствием такого количества еврейского населения, причём – прекрасная особенность нашего демократического города – не собранного в гетто, а живущего по всей Одессе, была выдающаяся концентрация деятелей еврейской литературы.
Соблюдая хронологию, начинаем с «дедушки» еврейской литературы». Для этого мы должны подойти на угол Канатной и Еврейской. По чётной стороне – новое административное здание. До Великой Отечественной войны на этом месте был двухэтажный особняк, где с 1927–11–06 по июнь 1941-го года[543] размещался Одесский музей еврейской культуры имени Менделе Мойхер-Сфорима[544].
Сверхкратко отметим следующее:
В период расцвета музея в нём было более 30 000 экспонатов. Музей принимал семейные реликвии и фотографии, театральные костюмы и афиши из Антверпена, Вены, Копенгагена, Парижа, Стокгольма, Нъю-Йорка, Буэнос-Айреса, Мельбурна, создал литературный архив еврейских писателей. Не меньшую ценность представляла коллекция летописей и уставов ремесленных братств, а также синагогальной утвари, Коллекция живописи включала работы Моисея Хацкелевича (Марка Захаровича) Шагала, Александра Григорьевича Тышлера, Натана Исаевича Альтмана, Аврума Ицхока Лейба Иосифовича (Леонида Осиповича) Пастернака.
Музей в Одессе, существуя за счет дотаций из городского бюджета, был единственной в Советском Союзе такого рода «сокровищницей памятников еврейской культуры»[545]. К тому же и народный комиссариат просвещения Украины обязал все учреждения всячески ему помогать в работе. Последнее обстоятельство можно рассматривать как медаль от Наркомпроса. Но, как и свойственно медали, у неё оказалась и противоположная сторона: то, что давалось Наркомпросом, так же легко (и зачастую поспешно) изымалось – то в Одесский Археологический музей[546], то – уже после войны – в Киевский государственный исторический музей и в Музей исторических драгоценностей УССР.
Сопоставление различных описей и изменение нумераций в них драгоценных изделий вызывает в памяти анекдот: основатель Одессы Иосиф Дерибас достаёт табакерку с гравировкой «Иосифу Дерибасу от Григория Потёмкина»; Александр Сергеевич Пушкин достаёт табакерку с надписью «Другу Александру Сергеевичу от князя Вяземского»; начальник Одесской ЧК достаёт портсигар с надписью «Городскому голове Г. Г. Маразли от гласных Городской Думы». Короче, постарались все – от румынских оккупантов до аккуратных одесских чиновников. «Благодаря» этим усилиям Одесса лишилась уникальной коллекции иудаики: она явилась бы прекрасным источником для изучения еврейского искусства и истории. Слабым утешением служит лишь то, что редчайшие шедевры ювелирного искусства не переплавлены[547], а остались в запасниках музеев Украины.
Мемориальная экспозиция самого большого зала отражала жизнь и творчество человека, чьё имя носил музей – Менделе Мойхер-Сфорима. В ней были представлены документы, книги, его изображения, старинная мебель, даже книга в серебряной ажурной обложке с золотыми накладками, преподнесённая писателю к его 75-летию общиной Торонто (Канада).
Если даже еврейская община неблизкого (почти 8000 км от Одессы) Торонто знала и ценила творчество Менделе Мойхер-Сфорима[548], то и мы обязательно должны рассказать о человеке, приехавшем в Одессу в 1881-м году и прожившем в нашем городе до своей кончины в декабре 1917-го.
Начнём, как в учебнике геометрии, с определения. Определение Менделе Мойхер-Сфорима как «дедушки еврейской литературы» приписывают Шолом-Алейхему, бывшему на 23 года моложе: Мойхер-Сфорим родился 1836–01–02 (по юлианскому календарю – 1835–12–21, в связи с чем в разных книгах о нём указывают разные годы рождения), а Шолом-Алейхем – 1859–03–02 (1859–02–18 – аналогичная картина с месяцами). Это определение не так почётно[549], как определение «отец еврейской литературы» – на него, осмелимся предположить, думал претендовать сам Шолом-Алейхем. Разница в возрасте формально позволяла такие определения для них. Ещё больше возможности определить первого как «дедушку», а второго как «отца» литературы на идиш давало сопоставление их творчества: Мойхер-Сфорим фактически начал эту литературу и создал современный литературный идиш, а Шолом-Алейхем, продолжая развивать язык, мог писать более масштабные произведения, окончательно освободив их от схематизма и дидактичности.
Но давайте по порядку. «Дедушку» в момент рождения в 1835/1836 году звали Шолем-Янкев (или даже Шолом-Яков) Хаим-Мойшевич Бройде. По паспорту он был просто Соломон Моисеевич[550] Абрамович[551], что сомнений в вероисповедании[552] не оставляло, но чисто технически было удобнее.
В биографии Соломона Абрамовича есть поразительные параллели с биографией Хаима Нахмана Бялика. Бялик лишился отца в 7 лет, Абрамович – в 14, яркие впечатления жизни на природе[553] отражаются у обоих в лучших произведениях на протяжении всей жизни. И Бялик, и Абрамович получают классическое еврейское образование, демонстрируя незаурядную память, и оба стремятся расширить свои знания, начиная изучение других языков и дисциплин, выходящих за пределы, принятые в их среде.
При этом Абрамович решается на поступок, почти стандартный после Максима Горького, но крайне неординарный в середине XIX века для еврейского юноши, да ещё и в Российской империи. Вместе с нищим бродягой Авремлом Хромым он путешествует по Литве и Украине, вряд ли догадываясь, что собирает материал для будущих повестей «Фишка Хромой» и «Кляча».
Впрочем, уже в 17 лет он, удачно встретив родственника в Каменце-Подольском, переходит на «оседлый образ жизни» в этом городе. Здесь он начинает изучать русский и немецкий языки, а также основы математики. Три года он женат на дочери местного богача[554], но через три года разводится с ней[555], сдаёт в 20 лет экзамен на звание учителя и работает в местном еврейском училище. Забегая вперёд, скажем, что и в Одессу он приехал «по этой линии», а именно – на должность директора Талмуд-Торы (дословно – «изучение закона»), то есть еврейской религиозной школы для мальчиков – главным образом из бедных семей.
Абрамович совершает беспримерный лингвистический подвиг. 1860-е годы отмечены интересом русской интеллигенции к естествознанию[556]. Абрамович хочет, чтобы еврейский читатель, как принято говорить на Украине, «не пас задних». Он переводит на иврит фундаментальный труд немецкого профессора Ленца «Естественная история». Первый том – о млекопитающих – выходит в 1862-м, второй – о птицах – в 1867-м, третий – о земноводных и пресмыкающихся – в 1872-м. Соломон Моисеевич создаёт новую номенклатуру и вырабатывает новые термины на иврите, причём в естественно-научной сфере, где не имеет базового образования. Яркая иллюстрация выражения: «Способный человек способен во всём».
Но этот беспрецедентный труд на иврите – никак не основание считать Менделе Мойхер-Сфорима «дедушкой еврейской (идишской) литературы». Собственно, Мойхер-Сфорима ещё и не существует.
Всё началось, конечно, в Одессе – и началось с «побочного продукта», переросшего в основной[557]. Но до этого Абрамович женился вторично, переехал в Бердичев и познакомился с Йегошуа Мордхе Лифшицем – он и пробудил у молодого публициста и общественного деятеля[558] интерес к идишу. Как мы уже упоминали, в начале XX века на этом языке говорило до семи миллионов человек. Но и тогда в энциклопедии Брокгауза и Ефрона (даже в статье, посвящённой самому Мойхер-Сфориму[559]), идиш именуется не язык, а «жаргон»[560].
Короче, не меньше смелости, чем создавать на иврите терминологию по естественным наукам, нужно было, чтобы начать писать на «жаргоне» художественную прозу, да ещё и «крупноформатные произведения», да ещё в 1860-е годы, когда литературного идиша и не было. Тем не менее Лифшиц и «перевербованный» им Абрамович предложили одесскому издателю Александру Осиповичу Цедербауму начать издание приложения – газеты «Кол мевассер» («Глас провозглашающий») – на идише к его «солидному» альманаху на иврите «ha-Мелиц» («Заступник»).
В этом приложении с ноября 1864-го по февраль 1865-го[561] печаталась повесть Соломона Моисеевича «Маленький человечек». Главный герой повести – карьерист Авремеле Такиф, коварством добивающийся богатства и высокого положения в общине. Повествование ведётся от имени Менделе[562] Мойхер-Сфорима, то есть Менделе – книготорговца или Менеделе-книгоноши.
Повесть переиздавалась многократно с изменениями и дополнениями. Это стало «фирменным знаком» Мойхер-Сфорима: он регулярно переделывал свои произведения на протяжении жизни[563]. Уже в первом варианте повести проявилось своеобразие языка автора – соединение литовско-белорусского и украинского диалектов, легшее в основу современного литературного идиш. Поэтому 1864-й считается годом начала современной еврейской литературы.
Вообще, несмотря на мягкий облик Мойхер-Сфорима, его внешность – судя по его творчеству и резонансу от творчества – весьма обманчива. Заметим, что сами книгоноши зачастую были «бунтарями»: обеспечивали еврейское население не только молитвенниками[564], но и не одобряемой раввинами светской литературой. Поэтому образ книгоноши – путешествующего из местечка в местечко, встречающегося с самыми разными людьми, попадающего в разнообразные обстоятельства, рассказывающего множество историй, высказывающего собственное мнение о том, «Как нам реорганизовать РабКрИн», то есть, извините, как преобразовать если не всю Российскую Империю, то хотя бы положение евреев в ней – оказался прекрасной находкой, вызвал доверие и «пошёл в народ».
У Абрамовича был очень критичный взгляд не только на положение евреев в Российской империи (это тогда банально для любого более-менее мыслящего и эрудированного человека), но также на обстановку в современном ему еврейском обществе. Последнее требовало незаурядного мужества и самостоятельности в мышлении.
Наш «дедушка», говоря объективно, был настоящий бунтарь. В первой же статье «Заметки об образовании», опубликованной, когда автору был 21 год, говорится, что еврейских детей нужно учить русскому языку и профессиям. Когда автору 25 лет, выходит сборник статей «Мирное суждение», где – название обманчиво, как и внешность Абрамовича – скептические оценки состояния ивритской литературы. Второй сборник статей выходит через два года и содержит призывы писать простым и ясным языком и о реальной жизни. Именно желая выполнять собственное требование, Абрамович переходит на идиш: трудно писать просто и ясно на языке Библии, а Бялику – одному из создателей современного иврита – только семь лет.
Но пока мы говорим о сборниках критических статей молодого человека; «бунтарство» в таких условиях почти тривиально. Интересно, что и в художественных произведениях Мойхер-Сфорим объективно и даже весьма сатирично описывает еврейскую жизнь. После пьесы с красноречивым названием «Такса, или Банда городских благодетелей» (1869), показывающей, как еврейские городские заправилы Бердичева эксплуатируют беднейшее еврейское население города, разражается такой скандал, что автор переселяется в Житомир[565]. Вообще в перемещениях писателя виден, как сейчас бы выразились, «восходящий тренд». Началась жизнь в местечке Копыль, потом был Каменец-Подольский, Бердичев, Житомир и в финальные 36 лет жизни – наша Одесса.
Писал Мойхер-Сфорим много, но настоящей сенсацией стал роман «Фишка Хромой». Хотя в основе его были личные впечатления от странствований с нищим Авремлом Хромым, в романе затронуты крупные проблемы, связанные с еврейской жизнью в Российской империи. Мойхер-Сфорим с присущим ему сатирическим даром и критическим мышлением обвиняет руководство еврейских общин в коррупции[566] и некомпетентности. Он критикует даже благотворительные организации, предлагая помогать, как говорится, «не рыбой, а удочкой», то есть давать не деньги, а профессиональное образование – подход, не потерявший актуальности и в наше время.
Постепенно Мойхер-Сфорим снижает сатирический накал своих произведений. Причина напоминает шутку о том, как «работяга» объяснил драматургу свою реакцию на очередную «производственную» пьесу: «Вот я получил отпуск, приехал на море, вышел на пляж, а на нём… 300 станков моего цеха». С появлением нового поколения еврейских писателей[567], в чьём творчестве сатира играет второстепенную роль, Мойхер-Сфорим начинает переделывать свои старые произведения, «уменьшая количество станков». Читатель на идиш нуждается в историях, банально помогающих выжить в суровом и неприглядном мире. В результате «Фишка Хромой» переделывается трижды (1869-й, 1876-й и 1888-й годы), и в каждой следующей редакции меньше сатиры, больше симпатии к героям. Это, впрочем, естественная эволюция мудреющего автора – к тому же испытывающего, несмотря на высокую продуктивность и успех своих произведений, и определённые материальные затруднения, и драматические жизненные испытания (смерть дочери и арест сына).
В литературном наследии «дедушки»: роман «Путешествие Вениамина Третьего» (1877), в польском переводе 1885-го года названный более определённо «Еврейский Дон Кихот»; удивительные «прикладные» вещи, вроде «Песнопения Израиля» и «Из песнопений» – рифмованных переводов с иврита на идиш синагогальной поэзии. В 1877–83-м годах издавался составленный им «Полезный календарь для русских евреев», содержавший материалы по естественным наукам и еврейской истории[568].
Совершенно замечательная история произошла с одним из самых значительных произведений Мойхер-Сфорима – повестью «Кляча, или Жалость к животным» (1873). В ней автор изобразил жизнь русского еврейства в образе несчастной, больной и всеми гонимой клячи. Его сын перевёл повесть на русский язык, после чего её начал печатать журнал «Восход». Дело было, кстати, через 18 лет после издания в Вильно на идише и через 5 лет после издания на польском языке. Но по мнению властей в повести содержались «намёки и несправедливые жалобы на положение евреев». Публикацию приостановили, журнал закрыли на шесть месяцев. Об этой истории мы бы и не упоминали – «дело житейское»[569]. Юмор в том, что за год до скандала в Петербургском «Восходе» повесть была опубликована в «Орловском вестнике» в переводе… И. А. Бунина. Как говорится, «Россия – щелястая страна», то есть всегда можно найти щёлочку и пересидеть[570].
Полное собрание сочинений Мойхер-Сфорима – 17 томов – вышло в 1911–1912-м годах в Варшаве. При этом до последних дней жизни он писал автобиографический роман «Шлойме, сын Хаима» (1894–1917), переводил на иврит свои идишские произведения. При этом он создавал новый иврит, используя языковые нормы языка на всех этапах его развития – библейском, талмудическом и средневековом. Такой языковой синтез оказался очень жизнеспособным: он преобладал в прозе на иврите вплоть до 1950-х годов. Впрочем, возрождение иврита – грандиозная победа, а у победы много родителей, поэтому объективно оценить роль Мойхер-Сфорима именно в этом вопросе сложно. То, что его именем назвали Одесский музей еврейской культуры, говорит скорее о том, что для иврита он сделал меньше, чем для идиша: в главе о Бялике мы говорили об отношении Евсекции к ивриту.
Мойхер-Сфорим скончался 1917–12–08 (1917–11–25). Спустя 11 лет, когда почти половину населения Одессы составляли его читатели, именем писателя назвали Дегтярную улицу. Румыны во время оккупации нашего города с этим смириться, естественно, не могли и вернули улице исходное название. После освобождения Одессы улица была и Вышинского, и Советской Милиции. Сейчас она снова Дегтярная. Мойхер-Сфорима она, увы, не будет: нет ни читателей, ни – честно говоря – самого языка. Самое страшное: во время Холокоста уничтожены и местечки, чей быт Мойхем-Сфорим описывал так ярко и выразительно. Вспомним мудрый финал фильма «Тегеран, 43»: «плёнки нет, рукописи нет, автора рукописи нет, свидетелей нет». Что же есть? Есть память – благодарная память потомков суровому и доброму, объективному и пристрастному, ехидному и нежному настоящему писателю Менделе-книгоноше.
По невероятному стечению обстоятельств[571] наш второй герой Шолом-Алейхем в Одессе жил по адресу Канатная, № 28, то есть в доме, примыкающему к особняку, где потом разместят Музей Еврейской культуры. Так иногда бывает и сейчас: отцы и дети живут по соседству. Чтобы концентрация информации про Абрамовича и Рабиновича была не критична, немного разбавим их сведениями о докторе Черниховском[572].
Объективности ради сообщим, что Одесса не сыграла ключевой роли в судьбе Шауля[573] Гутмановича: приехал он к нам в 15 лет в 1890-м, закончил коммерческое училище, но дальнейшее образование его проходило в Гейдельберге и в Лозанне. В Лозанне в 1906-м году он стал врачом. В Одессу возвратился после Первой Мировой и занимался частной медицинской практикой. Вслед за Бяликом уехал в Берлин, в Палестине появился в 1931-м, скончался в Иерусалиме 1943–10–14 в 68 лет. Такова, выражаясь языком советских отделов кадров, «объективка» на Саула Черниховского.
2013–08–28, когда правительство Израиля утвердило эмиссию новых банкнот, на купюре в 50 шекелей решили изобразить именно Черниховского. С учётом того, что банкнота в 100 шекелей с изображением Зеева Жаботинского выведена из обращения в сентябре 1986-го года, а банкнота в 10 израильских лир с изображением Хаима Нахмана Бялика выведена из обращения ещё раньше – в марте 1984-го, получается, что Черниховский – единственный житель Одессы, чей портрет можно увидеть на современной банкноте.
Мы считаем это достаточным основаним для того, чтобы чуть подробнее остановиться на литературной стороне деятельности Черниховского. Есть, правда, ещё один «непреложный факт»: именно в Одессе Черниховский, начавший писать стихи на русском языке, дал клятву своему наставнику и другу Йосефу Гедалии Лейбовичу Клаузнеру[574], что никогда не будет писать ни на каком другом языке, кроме иврита[575].
Как большинство поэтов, он начал писать очень рано: первая поэма на библейскую тему – в 12 лет. Владея (как и Бялик с Мойхер-Сфоримом) и ивритом, и идиш, он – в силу данной им клятвы – творил на иврите, хотя знал также русский, немецкий, древнегреческий и латынь. Классический набор гимназии – однако её Черниховский (как и обитатель «Вороньей слободки» Митрич[576]) не заканчивал. Для поступления в университет после одесского коммерческого училища Хаима Гоцмана надо было сдать гимназические экзамены по языкам, так что пришлось учить языки при помощи частных педагогов[577].
Как мы уже рассказали, Мойхер-Сфорим пионерски создал зоологическую лексику на иврите в трёхтомнике о млекопитающих, птицах, земноводных и рыбах. Аналогичную работу делает и Черниховский: по приезде в Палестину он – после смерти доктора Мазье – завершает труд, имеющий ещё большее прикладное значение – Словарь медицинских и естественно-научных терминов (латынь – иврит – английский).
Доктор Черниховский создаёт ивритский словарь по анатомии, после чего получает должность врача в школах Тель-Авива. Поэт Черниховский переводит на иврит «Илиаду», «Одиссею», «Слово о Полку Игореве», а также «Песню Гайаваты» Лонгфелло, эпос о Гильгамеше, финскую «Калевалу», шекспировские «Двенадцатую ночь» и «Макбета».
Если прочитать статью о нём в Еврейской энциклопедии Брокгауза и Ефрона[578], то перед нами предстаёт этакий поэтический еврейский… Куприн: «светлая и радостная муза Ч., принесшая с собой в еврейскую литературу свежий аромат южных степей и лугов, радостный здоровый смех и опьяняющее чувство избытка непочатых сил и сладости бытия». И далее: «сочные и яркие описания природы гармонично переплетаются со жгучим экстазом любви, любви земной, беззаботной, не знающей никаких рефлексий». Под стать была и внешность Черниховского. Вот как его описывает Ходасевич – его преданный переводчик: «Потом мы встретились в Берлине… в комнату врывается коренастый, крепкий мужчина, грудь колесом, здоровый румянец, оглушительный голос, стремительные движения. Не снимая пальто, усаживается на подоконник, говорит быстро, хлопая себя по коленке и подкручивая лихие казацкие усы. У него военная выправка и хороший русский язык с лёгким малороссийским акцентом. Ничего поэтического и ещё меньше – еврейского. Скорее всего – степняк-помещик из отставных военных…»[579] В точности портрета легко убедиться, разглядывая новую банкноту в 50 шекелей.
Черниховский и, естественно, Бялик[580] осуществили и узаконили своим творчеством переход ивритского стихосложения к привычной нам сейчас силлабо-тонике: двухсложные ямб и хорей, трёхсложные дактиль, амфибрахий, анапест; даже четырёхсложные пэоны. Его стихи впервые опробовали на иврите многие размеры и формы, распространённые в европейской и русской поэзии. Недаром его любимым поэтом с детства был наш Александр Сергеевич. Вклад Черниховского в обогащение музыкальных возможностей иврита неоценим. Однако, как и в случае Бялика (см. главу 8), использование ашкеназского иврита с ударением на предпоследнем слоге мешает восприятию его стихов сейчас, когда ударения в словах сместились на слог последний[581]. Да и мало кто из современных читателей понимает используемые им библейские конструкции. Так что чтение произведений поэта Черниховского – удел немногих знатоков[582].
Но можем предположить, что на выбор дизайна новой купюры в 50 шекелей повлияло ещё и обстоятельство, сформулированное в монологе Андрея Павловича Башкирцева в первом советском художественном фильме, посвящённом нашей космической программе – «Укрощение огня»: «… никто никогда не повторит того, что было совершено нами. Мы были первыми – и останемся ими уже на века! А это так трудно – быть первыми…»
Теперь, как и обещали, проходим буквально 50 метров по Канатной от Еврейской к дому по Канатной, № 28. На доме целых две мемориальные доски. Одна сообщает, что в здании жил македонский учёный и культурно-национальный деятель Крсте Петков Мисирков, а вторая посвящена нашему герою: «Здесь в 1891–1893 гг. жил и работал великий еврейский писатель ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ (Шолом Нохумович Рабинович) 1859–1916». Сам дом весьма красивый: изящные ажурные балкончики по обе стороны от пары мощных эркеров, восточного стиля окна в самих эркерах, множество колонн на уровне второго этажа. Впечатление портит отвратительное (другого слова не подберёшь) состояние фасада. Интересно, что подумала, рассматривая этот фасад, внучка писателя Белла Михайловна Койфман (Бел Кауфман)[583], когда в 1998-м году (в 87 лет, кстати) прилетала в Одессу открывать мемориальную доску своему дедушке?
Сам Шолом-Алейхем просто отремонтировал бы дом за свой счёт. Он очень легко расставался с деньгами, в результате чего растратил состояние, унаследованное от тестя. Недаром Элимелех[584] Лоев так противился браку дочери Годл (Ольги) и её репетитора. Просто классический сюжет для романа – в том числе для недописанного автобиографического романа «С ярмарки».
Грустный факт одесской топонимики: у нас уже нет ни улицы Мойхер-Сфорима, ни улицы Шолом-Алейхема. Первое название, как мы отмечали, «продержалось» с 1928-го по 1941-й год[585], а вот второе существовало также с 1928-го по 1941-й, но потом ещё с января 1950-го по май 1995-го. Теперь это снова Мясоедовская улица – там был большой участок одесского мещанина, владельца пивного и квасного производства Дементия Мясоедова ещё в первой трети XIX века. Возвращение названия по такому основанию, на наш взгляд, сомнительно. Шолом-Алейхем Киев именовал «Егупец», а вот Одессу любил и в своих произведениях не переименовывал. Но в Киеве и Москве ему есть даже памятники, свыше 20 городов Российской Федерации, Украины, Молдавии назвали улицы в его честь, а Одесса, наоборот, лишилась и того, что было. Нехорошо, ребята!
Тем более что на этой улице расположена знаменитая Еврейская больница, основанная ещё в 1800-м году (!) и по сей день действующая как городская клиническая больница № 1 (sic!). А ещё в доме № 26 по Шолом-Алейхема был иллюзион (кинотеатр) «Слон», где после закрытия «Гамбринуса» играл купринский Сашка-музыкант.
Но вернёмся к Шолом-Алейхему. От отца ему досталась стандартная еврейская фамилия Рабинович и имя[586]-отчество Шолом Нохумович (в грецизированном варианте – Соломон Наумович). От имени Шолом уже «рукой подать» до говорящего псевдонима «шолом алейхем», то есть «мир вам». Оборот, понятный, кстати, всем потомкам Авраама, включая арабский мир (арабы произносят «салям алейкум»).
Мы начали нашу экскурсию от дома Гоголя с тем убеждением, что от него можно проложить ментальный маршрут к любому писателю. В данном случае это легко подтвердить, сопоставив творчество Шолом-Алейхема и знаменитую фразу из поэмы «Мёртвые души»: «Часто сквозь видимый миру смех льются невидимые миру слёзы». В этих словах – концентрированная характеристика произведений, написанных за 42 года[587] неустанного труда и вошедших в многочисленные собрания сочинений, включая 28 (!) томов, изданных в СГА в 1917–1925-м годах.
Главная черта Шолом-Алейхема, определившая всё его творчество – доброта. Это тем удивительнее, что перипетии его биографии не способствовали доминированию такой черты, даже если она и была в него заложена при рождении. Его отец – состоятельный человек в момент рождения сына – разорился, после чего семья вернулась из местечка Воронково (прототип будущей Касриловки) в Переяславль, где писатель и родился в марте 1859-го года. В 13 лет он лишился матери (а мачеха ругала приёмных детей так часто и впечатляюще, что немало её реплик он потом вложил в уста разгневанных своих персонажей), потом ему отказали в браке с любимой девушкой и он расстался с ней. Через четыре года – в 1883-м – Голда Лоева вопреки воле отца вышла замуж за своего домашнего учителя. Вот тут, наверное, у Шолом-Алейхема и появилось чувство, проходящее и через жизнь и через творчество: в итоге всё будет хорошо. Кстати, у них родились шесть детей.
Когда в 1885-м году тесть писателя умер, Шолом-Алейхем стал богат. Но ненадолго. Игры на бирже, коммерческие дела в Киеве, финансирование литературных проектов – и скорый финансовый крах. С 1890-го Шолом-Алейхем в бегах от кредиторов: Черновцы, Одесса (первый приезд), Париж и Вена – нам бы так «побегать». В 1893-м, когда тёща собрала остатки состояния мужа и помогла вернуть долги, он вернулся в Киев. Да, у Шолом-Алейхема была настоящая еврейская тёща, а не какая-то там мадам Петухова, спрятавшая бриллианты в стул под тем «надуманным» предлогом, что Ипполит Матвеевич Воробьянинов «пустил по ветру имение моей дочери».
Самое смешное, что после этого Шолом-Алейхем в Киеве снова занимается биржевой деятельностью. С мая 1908-го года Шолом-Алейхем уже серьёзно болен туберкулёзом, но и это мрачное обстоятельство не изменяет его оптимистического и доброго характера. До последних дней жизни он очень интенсивно работает, бесконечно разъезжает и встречается с читателями-почитателями, число которых растёт как снежный ком. Только в последний год жизни, переехав в СГА, где к тому времени уже была громадная идишская община[588], Шолом-Алейхем посетил Кливленд, Детройт, Цинциннати, а также Торонто и Монреаль. Если Семёна Фруга хоронили все евреи Одессы, то Шолом-Алейхема в мае 1916-го хоронил весь еврейский Нъю-Йорк: еврейские предприятия города просто закрылись в этот день.
Как у каждого настоящего писателя, у Шолом-Алейхема «всё идёт в работу». Неуспех в бизнесе дал замечательный материал для цикла «Менахем-Мендл». Если у Ильфа и Петрова отец Фёдор – стяжатель[589], то переписка незадачливого биржевика с его женой Шейне-Шейндл[590] рождает – впервые в еврейской литературе – образ «человека воздуха», трогательный и очень лирический.
Параллельно Шолом-Алейхем рисует и другой, ещё более популярный – в исторической перспективе – образ. Тевье-молочник – простой труженик, твёрдо стоящий на земле, внешне немного грубоватый, но проницательный, умный и тонкий. Не случайно именно этот образ взял за основу Григорий Израилевич Офштейн (Горин) – и создал выдающийся спектакль «Поминальная молитва». По телевизору мы видели Тевье-молочника в исполнении и Михаила Александровича Ульянова, и Евгения Павловича Леонова – оба играли прекрасно. А ещё Владимиру посчастливилось видеть на сцене в этой роли Богдана Сильвестровича Ступку – эпитетов для характеристики его игры и не подберёшь.
«Скрипач на крыше» – мюзикл по рассказам о Тевье-молочнике – написан в 1964-м, экранизирован и идёт на Бродвее до сих пор. Владимир с женой Инной видели этот спектакль в Нъю-Йорке осенью 2005-го; кроме удовольствия от высокопрофессиональной работы актёров, было и чувство гордости за то, что мы как-то ближе к тем местам, тем людям, чем остальные зрители.
Действительно, ведь именно про Одессу Менахем-Мендл пишет своей жене то, что хочет сказать про наш город сам Шолом-Алейхем: «Я просто не в состоянии описать тебе город Одессу, её величие и красоту, её жителей с их чудесными характерами»[591].
В течение почти двух лет писатель пытается найти ответ на вопрос: как смогли жители местечек черты оседлости – с их специфическим опытом существования фактически в гетто – так быстро вписаться в жизнь самого европейского города юга России. И не просто вписаться, а внести значительный вклад в его феноменально быстрое развитие, став успешными адвокатами, врачами, предпринимателями. Свобода, о которой так мечтали в штетлах – поселениях черты оседлости – раскрепостила евреев, дала возможность раскрыться в Одессе их талантам. Парадоксально, но этих успешных евреев Шолом-Алейхем в своих произведениях не описал…
«С кем поведёшься, от того и наберёшься». Черниховский, дружа с Клаузнером, поклялся писать только на иврите, Шолом-Алейхем, познакомившись с Мойхер-Сфоримом, пишет на идиш. Точнее, утверждается в решении, принятом ещё в начале 1880-х[592].
В Одессе Шолом-Алейхем издаёт журнал как приложение к ежегодному альманаху «Еврейская народная библиотека». Альманах упрочил позиции идиша и литературы на нём, но – как это регулярно бывало у Шолом-Алейхема – финансово потерпел крах. Та же участь ждала и журнал, но в нём Шолом-Алейхем успел издать первый цикл рассказов «Лондон» из того самого романа в письмах «Менахем-Мендл», о котором мы упоминали. Вот такой у нас город: Пушкин провёл 13 месяцев и начал «Евгения Онегина»[593]; Шолом-Алейхем прожил в Одессе тоже немного, но начал у нас своего «Менахема-Мендла».
Однако главное в другом. Именно в Одессе Шолом-Алейхем увидел стремление и способность еврейского народа к возрождению. Доброта и оптимизм, свойственные натуре писателя, получили в Одессе мощный дополнительный импульс. «Подпитавшись» духом Одессы, Шолом-Алейхем показывал даже самую скудную еврейскую жизнь как «еврейскую комедию», чем радикально отличался от большинства современных ему еврейских писателей. Произведения Шолом-Алейхема, при всей достоверности и точности описания трагического элемента, не оставляют чувства безысходности. Юмор, шолом-алейхемовский юмор[594] – один из китов, на которых держалась и – к счастью либо к несчастью – будет долго держаться еврейская жизнь.
- Глава 6 Путь к кино
- Глава 7 «Неистовый» Корней
- Глава 8 Бялик на улице Бялика
- Глава 9 Бремя больших ожиданий
- Глава 10 Улица литераторов – часть 1
- Глава 11 Литературный покер: две двойки
- Глава 12 Улица литераторов – часть 2
- Глава 13 Выглядывающий из вечности и неисправимый жизнелюб
- Глава 14 Абрамович и Рабинович
- Глава 15 Свобода – точка отсчёта




